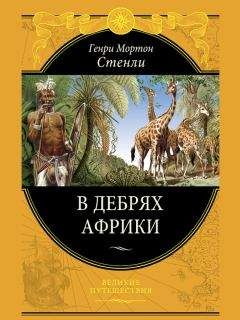Когда Корено предложил продолжить наш вояж по злачным местам посещением борделя, я, честно говоря, немножко растерялся. Как любой человек эпохи видеокассет, быстро сменившейся эпохой DVD–дисков, я мог смело заявить: «И чего я там не видел?» Но на этом и моя информированность, и моя смелость заканчивались. Лопатин же – вот удивительно! – во многом оказался еще наивнее меня.
Впрочем, к моей растерянности примешивалась изрядная доля любопытства, да и адреналин после драки еще зашкаливал. Так что сказать, что я колебался, означало бы соврать самым наглым образом. А тут еще и толстовщина полезла, причем из обоих. «Воскресение» небезызвестное. И «Яма» вспомнилась, кому именно, я уже и не понял. Мне то легче, «дас ис фантастиш» легко перебивало русских классиков, а Лопатин вообще размяк в стенаниях по поводу несчастных падших женщин. А вечный бес любопытства так и толкал нас обоих сравнить литературных героинь с живыми прототипами.
Приют разврата оказался не совсем таким, каким я его себе представлял. Никаких бедовых девиц, караулящих у входа и хваткой бультерьера цепляющихся за «рашентуристо»… вообще ничего, что выставлялось бы напоказ. Всё, если так можно выразиться, вполне пристойно, больше похоже на средней руки провинциальную кафешку. Что же до самих девочек – восьмиклассницы из моего прошлого (оно же, по нелепому стечению обстоятельств – будущее) и одевались, и вели себя куда раскованнее.
Не успел я толком оглядеться, как Колька – вот электровеник! – мне уже барышню организовал. Краси–ивую! Вполне в моем вкусе… то есть такую, к каким я всегда близко подходить боялся, зная, что на их фоне буду выглядеть вообще как пентюх распоследний. Лопатин где–то на периферии моего сознания слабо вякнул, что предпочитает поблондинистее и попухлее, но я быстро поставил этого ценителя истинно арийской красоты на место, он обиженно умолк и больше не высовывался.
Барышня с нежданной энергией взяла меня в оборот – втащила на второй этаж, втолкнула в комнату, и… И пока она бегала за традиционными «выпить–закусить», я – тоже как–то вдруг – понял, что все будет иначе. Почему? Ну, в этом я и сам себе толком отчета не давал. Наверное, у меня приключился день непредсказуемых поступков, которые немножко сродни подростковому стремлению сделать наперекор. М–да, странное оно, мое взросление в это мире!
И я огорошил барышню тем, что, приняв позу влюбленного пажа, выдал ей по–французски совершеннейшую банальность, а потом, не давая опомниться ни ей, ни себе, начал декламировать Шекспира, сонет, не помню, не то сто двадцатый, не то сто тридцатый:
My mistress' eyes are nothing like the sun;
Coral is far more red than her lips' red;
If snow be white, why then her breasts are dun;
If hairs be wires, black wires grow on her head.
I have seen roses damask'd, red and white,
But no such roses see I in her cheeks;
And in some perfumes is there more delight
Than in the breath that from my mistress reeks.
Помнится, в прошлой моей жизни институтская «англичанка» Римма Владиленовна буквально пытала нас Шекспиром и Бернсом, заставляя зубрить бессчетное количество текстов. То, что мы понимали лишь отдельные слова, неистовую Римму ничуть не заботило. Она любила само звучание, погружаясь в него с головой, а мы… мы просто тонули. Но Лопатин–то английским овладевал не в провинциальном вузе начала XXI столетия, и, объединив усилия, мы цитировали бессмертные строки на языке оригинала так, что старине Вильяму за нас стыдно не было бы. Однако же после второй строфы я не удержался – и продолжал на языке родных осин:
Ты не найдешь в ней совершенных линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.
Дамочка моя совсем разомлела, глазки горят, щечки пылают. А я, не собираясь останавливаться на достигнутом, плеснул ей и себе в бокалы (во сервис! барышня, хоть и слушала во все уши, успела бутылочку откупорить) и принялся за Бернса:
Comin thro' the rye, poor body,
Comin thro' the rye,
She draigl't a' her petticoatie
Comin thro' the rye…
И, дабы не изменять только что возникшей традиции, закончил по–русски:
И какая нам забота,
Если у межи
Целовался с кем–то кто–то
Вечером во ржи!..
И, благодаря сидящим во мне знаниям Лопатина, а может, еще и двум бокалам красного, с каким–то испугавшим меня самого восторгом подумал: а ведь крут, реально крут был Самуил Яковлевич, и Шекспира, и Бернса так переложил, что ничуть не хуже оригинала вышло!
Эта мысль, к счастью, сгинула под натиском другой: вспомнилось мне, что я где–то слышал песню на эти стихи. Мелодия смутно припоминалась. Да ладно, и совру – никто не заметит! И я запел. По–русски, все ж таки мне так удобнее оказалось. Была б гитара – еще душевнее получилось бы. Но хоть и без музыки, и по–русски, барышня моя, гляжу, слезу пустила.
Ну, тут я и вовсе разошелся… то есть, не сразу, а после еще парочки бокалов. Нет, пьяным я не был, у меня было опьянение иного рода, когда я взахлеб читал родного нашего Заболоцкого:
…Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую…
Барышня в исступлении прижимала руки к пухлой груди и вздыхала так чувственно, что, услышь ее товарищ Заболоцкий, наверняка был бы так счастлив, как только может быть счастлив творец.
А я уже выводил, слегка стыдясь, что все ж таки чуть–чуть фальшивлю:
Ах, какая женщина, какая женщина,
Мне б такую!..
И когда через пару часов я спустился со своих персональных небес на землю и Колька начал допытываться «ну и как?» (тоже мне, гурман–любитель клубнички!), я, уже не находя слов, просто показал ему большой палец – дескать, зашибись как круто. Самое смешное, что я ну ни капельки не врал.
Июль 1897 года. Кимберли.
Ласковое утреннее солнце, пробуждая ото сна шахтерский городок, неторопливо пробежалось по кривым улочкам, как попало заставленным одноэтажными домиками, среди которых, то там, то сям возвышались здания трехэтажных отелей и двухэтажных, в колониальном стиле, коттеджей, произведенных местными жителями в разряд достопримечательностей. Отразившись веселым блеском в стальных полосах трамвайных рельсов, озорные лучи с разбега уткнулись в серо–голубые кимберлитовые стены небольшого двухэтажного особнячка и недоуменно замерли.
Солнце осторожно уткнулось жалюзи и, словно испугавшись ледяного блеска штыков часовых, застывших каменными изваяниями на пороге дома, побежало дальше, более не настаивая на побудке хозяев. Хотя надо сказать, обитатели особняка нынче еще и не ложились. По крайней мере, двое из них.