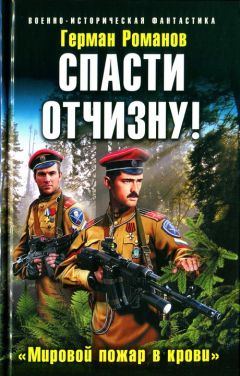И не просто спас, а признал его заслуги перед Россией награждением ордена Святого Георгия 3-го класса и назначением на должность командующего только что созданного Одесского округа, из которого большевики еще продолжали выводить свои части, а румыны придвинули свои войска прямо к Днестру…
Берлин
(2 октября 1920 года)
— Шуруй обратно, дед, а то требуху выпустим. Надоел ты нам за эти дни, немчура бестолковая!
Рослый чекист в скрипящей кожаной куртке, что при царе была положена только офицерам ударных штурмовых частей, с усмешкой посмотрел на старика-немца, что вылез в очередной раз на свет из подвала, где обретался на своем лежбище.
Не вовремя высунулся!
— Зря ты так, Сява! — второй чекист, одетый в точно такую же униформу, с мягким лицом сельского батюшки, которое портили безумные глаза фанатика, вступился за старика. — Видишь, как немецкие пролетарии по подвалам живут. А домина буржуйский, вон рейхстаг, дума ихняя, что у нас при царском режиме была, совсем рядом стоит. Ох, ап-чхи!
— Ну и вонь от тебя, папашка!
Здоровяк закрутил носом, сморщился от омерзительного запашка, но не осерчал, а вроде как подобрел на свой, чекистский, лад: уж больно лицо окрысилось, а зубы выперли наружу, как у вурдалака.
— Вот парад проведем, так я тебя в лучшей квартире поселю! А ежели кто из буржуев супротив «уплотнения» пикнет, так на распыл отправлю. Теперь, дед, и ты в человеческих условиях поживешь!
— А ведь верно, Сашка! Два дня на бедолагу смотрим, а ведь он гегемон, пролетарий! Ты, папашка, на кого трудился-то?
Старик разразился скулящей скороговоркой, а чекисты оторопело слушали льющуюся водопадом незнакомую речь.
— Ох, немчура! По-человечьи говорить ты могешь?
Здоровяк встряхнул старика за рубище и тут же отдернул руки, машинально вытерев их об штанины — ладони стали липкие.
— Воняет от тебя, дед, как от козла!
Сашка только закрутил носом, увидев, как его напарник брезгливо отирает свои ладони. А ведь занюханным золотарем до революции трудился, всяких запахов нанюхался, любое дерьмо руками голыми без опаски брал. Видно, совсем худо немецкий дедок живет, раз даже Сяву до жуткой брезгливости довел.
Сам он служил всю войну в Гатчине, в запасном самокатном батальоне, и считал себя истинным гегемоном, ибо до службы помощником медника был, самовары лудил.
— Ничего, в ванне отмоешься! У вас еще вода течет, и не только холодная, но и горячая. У нас такого уже три года нет!
— Отмоется, а мыло тут во всякой квартире имеется. Буржуи! — с завистливой ноткой отозвался здоровяк, вот только в голосе злобы было побольше, и посмотрел на старика, что сжался в комочек.
— Не боись, немчура, бить тебя не буду, не робей. Подумаешь, руки изгрязнил! Свое ведь дерьмо, пролетарское. Тебя-то как звать? — Здоровяк наморщил лоб и выдал те слова, что отложились в его памяти: — Их бин… Нейм вроде? Собачий язык! Звать-то тебя как, дед?! Имя твое, имя?! Вот чурка с глазами, ни хрена не понимает!
— А ты че хотел? Оттого у нас их немцами и называют. Немые они вроде, нормальных слов не понимают. — Пролетарий наклонился над испуганным немчиком, дыша ртом через раз, растянув губы в улыбке: — Звать-то тебя как?
— Обер-лейтенант фон Шмайсер!
Старик неожиданно отчеканил слова, а чекист екнул в ответ, его глаза предсмертно расширились: длинный кинжал пронзил парня прямо в сердце, мгновенно отняв жизнь.
Здоровяк даже не успел понять, что случилось, как в сумраке «черного» выхода сверкнула серебристая сталь, и ему глубоко располосовало горло. Но силы у него еще имелись огромные — хоть кровь хлестанула струей, но пальцы потянули наган из кармана.
— Не балуй, сучий выкидыш! — совершенно без акцента произнес немец и спокойно, одним ударом, добил чекиста. Придержал большое тело, аккуратно положив его на площадку. Огляделся настороженным волком и рванул в подвал буквально на три секунды, заглянув в приоткрытую дверцу, — теперь в его руках появилась обихоженная винтовка «маузер» с установленным сверху оптическим прицелом.
— Ну и вонь!
Пробормотав это с отвращением, Шмайсер скинул с себя грязное рубище — под ним оказалась красноармейская форма с синими «разговорами» на груди. Он извлек из-за пазухи буденовку с нашитой звездой такого же цвета и полностью преобразился, став похожим на те многие тысячи конноармейцев, что три дня назад с боем вступили в Берлин, неся на своих знаменах красный цвет мировой революции.
По лестнице офицер поднимался бесшумным кошачьим шагом — двери по левую сторону были опечатаны, туда согнали всех жильцов и приказали сидеть тихо, как мышам под веником. А вот по правую сторону в квартирах находилось по чекисту — окна там выходили прямо на рейхстаг.
Нужная дверь нашлась на третьем этаже, и немец постучал в нее характерным знаком — два раза бухнул, один поскребся.
— Открывай, Федя, помочиться нужно, — голосом убитого Сашки негромко сказал Шмайсер и осклабился, сжимая в руке кинжал.
— Мог бы и внизу отлить, — послышалось из-за двери недовольное бормотание, и щелкнул замок.
Шмайсер сильно ударил ногой по раскрывшейся двери и ворвался в открывшийся проем. Чекист сидел на полу, схватившись за лоб руками — он был оглушен ударом.
— Этих идиотов, как баранов, режут!
Он стремительно полоснул молодого парня по горлу и свалил толчком ноги — тот предсмертно захрипел, выгибаясь.
— Кто ж так охранную службу несет? Олухи! Учить и учить вас надо!
Кинжал он тщательно вытер о полотенце, сжатое в предсмертной судороге в чекистских ладонях, и по-хозяйски засунул за голенище сапога. Затем Шмайсер проскользнул в требуемую комнату и усмехнулся — окно было приоткрыто, а занавеска отдернута.
Убитый чекист не отказал себе в удовольствии посмотреть на торжественный парад. Офицер глянул в окно и хмыкнул:
— Красиво стоят! Но идут вразнобой. Не готовились к церемониальному маршу, ну да ладно — победителей не судят.
На площади большой оркестр со всей мощи легких выдувал пролетарские марши, которые заглушали громко топающие сапоги пехотных колонн. В таком гаме винтовочные выстрелы вряд ли услышат и не сразу определят, откуда была послана свинцовая смерть.
Шмайсер рывком дернул стол, поставил его в шаге от окна и быстро водрузил на блестящую полировку крепкий стул с изящно гнутой спинкой. Аккуратно пристроив на сиденье винтовку, немец приложил приклад к плечу, прижав резиновый наглазник. В сетке прицела была отлично видна наспех сколоченная деревянная трибуна, украшенная пролетарским кумачом с наляпанными призывами.