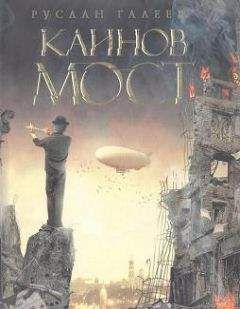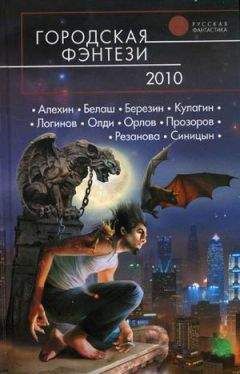Ознакомительная версия.
Подозреваю, впрочем, что была и другая, менее явная причина. Чисто физическое положение архива создавало ложное ощущение, что он находится как бы над всем происходящим в городе, в том числе и над тем, что происходило в нем в эти дни. Надо заметить, что кое в чем это впечатление не обманывало. Достаточно мощные, специально укрепленные стены архива могли выдержать многое, в холодильнике хранились коробки с сухими пайками на случай авралов, когда работа архива не должна была прерываться даже на обеденные перерывы, а также на случай ночных вахт. В архиве была вода, и кроме того, ни из одного из основных коридоров невозможно было в него попасть. Только на лифте или по одной из десятка внутренних пожарных лестниц. Но двери и лифта, и пожарного выхода блокируются… Правда, ни в одну из ночей я этого так и не сделал.
И вот теперь, когда я шагнул в разошедшиеся двери лифта, мне показалось, что меня, словно рыбу, несет взбесившееся течение к опасному берегу. Вода схлынет, и я останусь на песке…
Холодный лифт в духе хай-тек, как это теперь принято называть, который моя ортодоксальная душа не принимала в принципе, уюта и покоя не добавлял. Он был максимально функционален, что исключало само понятие уюта, да и правда, что за уют в лифте? Каков его смысл? И все же эти холодные металлические панели, дырчатый потолок, яркий свет, которого было явно слишком много для такого небольшого помещения, — все это было мне чуждо. И хотя этот новый лифт, стремительно пронзающий этажи, был, разумеется, и удобнее, и, главное, быстрее, старый мне нравился больше. Он был обшит пластиковыми панелями под темное дерево, ехал медленно и при подъеме так натужно гудел, что казалось, будто вся Останкинская башня упирается в землю с одной целью — вытянуть лифт из бездны лифтовой шахты. Помнится, я успевал прочесть целый кортасаровский абзац за то время, пока старый лифт поднимался на этаж архива. Кроме всего прочего, в нем никогда не закладывало уши.
В некогда гулком холле у лифтов ожидал меня нетерпеливо тот самый гвардеец, что чистил несколькими часами раньше парабеллум. Он не переминался с ноги на ногу, ни одним жестом не дал понять своего нетерпения, но в его фигуре было что-то такое, что напомнило мне сторожевого цепного пса, которому мешает сорваться и вцепиться вам в кадык лишь длина цепи. И только теперь, увидев знакомые, одновременно холодные и наивные глаза этого ребенка-убийцы, я подумал, что не стоило, пожалуй, в такое время покидать помещение архива без оружия. К тому же у меня были основания полагать, что теперь оно бы однозначно выстрелило, возникни такая необходимость.
— Пойдемте, — еле слышно произнес гвардеец, но я хоть и услышал все так, как это было произнесено, почувствовал в этом «пойдемте» отчетливое «р»: «Пройдемте». Видимо, глубинные, скрытые на генетическом уровне, поколениями взращенные рефлексы российской интеллигенции неистребимы. Впрочем, справедливости ради нужно отметить, что не исключен и обратный вариант: профессиональный военный люд низших чинов привычно уже произносит любое обращенное в сторону интеллигенции словцо с характерным намеком на «р». И в том и в другом случае этот уже безусловный рефлекс имел все причины — и исторические, и социально-психологические. Другими словами, я мог рефлекторно услышать то, что рефлексторно вложил в сказанное тигровый гвардеец. Все это шальными осколками пронеслось в моей голове, но я, пусть и не обладал способностью контролировать собственную мимику, постарался не показать своих чувств. Я хорошо знал, что в среде сильных животных, к коим я никак не мог себя причислить, подобная открытость чувств воспринимается исключительно как проявление слабости. А мне не хотелось казаться в глазах моего провожатого еще более слабым. Поэтому я лишь молча кивнул и, не задавая лишних вопросов, проследовал за гвардейцем.
Сразу же по выходе из лифта, когда массивный торс гвардейца перестал заслонять панораму, я был поражен тем, что осталось от холла. А от холла в принципе ничего и не осталось, за исключением незнакомых бетонных стен, изъеденных оспинами пулевых отметин и черными пятнами гари. Исчезли новые, под дерево, панели со стен, не было больше ни огромных витринных окон, ни фальшколонн — только огромная серая пещера, в углу которой темной грудой притаилась туша подбитого танка. Прищурившись, я к удивлению своему увидел, что башня с танка сорвана и, почерневшая, валяется в стороне. Когда мы проходили мимо развороченной туши танка, мой провожатый ткнул рукой в оплывшую по краям неровную дыру как раз под тем местом, где по моим представлениям должен был находиться ствол пушки, и делано равнодушно, но с плохо скрываемой гордостью проговорил:
— Моя работа!
Наверное, когда мать привезла мне из Италии бескозырку с помпоном, какую носят итальянские моряки, я с тем же деланым равнодушием говорил друзьям во дворе: «Да так… Мать привезла. Из Италии».
Решив, что наступил подходящий момент, я задал волновавший меня вопрос:
— Простите… хм… гвардеец, а что случилось? Почему меня… хм… вызвали?
Это самое «вызвали» прозвучало так нелепо кстати, что я не удержался и поморщился. А ну как Вацлавски нашел себе другого, более интересного партнера по чаепитию и поглощению карамели?
— Узнаете на месте, — резко сменив тон, ответил гвардеец, и теперь уж точно не ветер выбил мерзкие хладные капельки пота у меня между лопаток. Я тут же дал себе слово ни о чем и никогда не спрашивать этих людей.
Стараясь не отставать от широко шагающего гвардейца, я тем не менее не упускал возможности оглядеться. Сверху картина была мало похожа на что-то реальное, скорее уж на теоретическую схему спорадической обороны засевшего в башне гарнизона. Игрушечные солдатики, игрушечные фортификации, и только башня — реальная. Иногда приходилось прикладывать определенные усилия, чтоб заставить себя осознать — это не схема, не теоретическая выкладка, это то, что имеет место быть в действительности, чего бы оно ни напоминало при взгляде из архивных окон.
Пространство вокруг башни представляло собой одну огромную баррикаду из наваленных бетонных плит, шлакоблоков и канатных катушек, что прикатили ополченцы со стройки поблизости. Также в баррикаду были странным образом вплетены остовы легковых машин, среди которых я обнаружил нечто похожее на мой древний «Фольксваген жук», впрочем, весьма искореженное и местами сильно оплавленное. Никаких чувств в связи с этим я не испытал, поскольку данный автомобиль был древним уже тогда, когда я его покупал. Подозреваю, что он был таковым уже в день выпуска. Хорошая машина, но потерю ее я не переживал. Трудно было даже предполагать, понадобится ли мне когда-нибудь машина, а в таком виде, являясь частью баррикады, она не могла понадобиться однозначно. И единственное, о чем я жалел в связи с увиденным, это об оставленной в бардачке книге — сборнике стихов Элюара.
Ознакомительная версия.