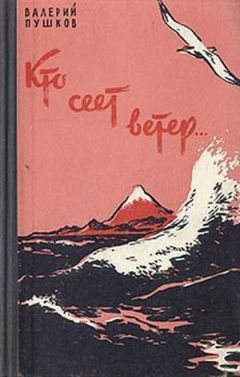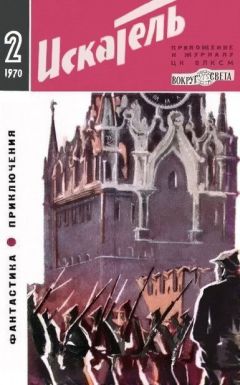— Пришибу! — крикнул он угрожающе. — Лягушонок!
Побелевшая Сакура умоляюще протянула к жандарму руки.
— Оставьте его… Я иду! — проговорила она с перехваченным дыханием.
Она надела пальто, попросила старуху скорее уложить плачущего Хироси в постель, подошла к старшему сыну и, обнимая его, успокаивающе сказала:
— Не волнуйся, милый. Меня отпустят. Они не имеют права арестовывать невинных людей!.. Смотри, пожалуйста, за Хироси. Бабушке одной будет трудно с ним..
Она прижала Чикару к груди и быстро шепнула:
— Постарайся скорее увидеть Таками-сан! Пусть он предупредит папу.
— Ну-ну, поторапливайтесь! Нам некогда ждать, пока вы тут намилуетесь, — повелительно крикнул шпик.
Сакура поцеловала мальчика, сунула ему в руку свое портмоне и молча пошла за полицейскими к автомобилю.
Через минуту мотор опять загудел полным голосом. Машина тронулась, и дети остались в пустых полуразгромленных комнатах, в обществе болтливой старухи, которая тотчас же заторопилась к себе, сгорая желанием поделиться с дочерью свежими новостями и посплетничать вдвоем о соседях.
— Ты не бойся!.. Ночевать я приду, если отец и мать не вернутся, — пообещала она Чикаре.
— А мы и одни переночуем! — сказал он недружелюбно.
Дом оставался неубранным. Фусума стояли задвинутыми в простенки. Всюду валялись разбросанные при обыске вещи. Хироси лежал в кабинете отца, на его матраце, завернутый в ватное одеяло, то открывая сонные глазки и тихо попискивая, то засыпая снова.
Старуха ушла. Чикара, не прибирая комнат, разбудил брата, одел и обул его во все теплое, оделся сам и, наобещав малышу немало приятного, повел его через улицу к автобусной остановке.
Профессор Таками сидел у ниши, около прозрачной зеленой вазы с высокими ирисами, принесенными друзьям на прощанье. Он выглядел утомленным и грустным. Чашка крепкого кофе не освежила его. Старик был взволнован налетом полиции на типографию и многочисленными арестами рабочих-печатников. Весь тираж первых двух номеров «Рабочей газеты» удалось, правда, вывезти заблаговременно, но это грозило издательству еще большими осложнениями. Теперь оно переходило на нелегальное положение, вступая в открытую, неравную борьбу с кейсицйо и военщиной. Профессора это тревожило и пугало.
Гото, заметив его удрученное состояние, принес длинную, с крохотной чашечкой трубку, которую старик обычно курил во время работы в редакции.
— Спасибо. Сегодня я воздержусь, — поблагодарил профессор.
— Вам нездоровится? — спросила участливо Сумиэ.
— Старому сердцу всегда нездоровится. Таков закон жизни, — ответил грустно Таками.
— Сердцем-то вы моложе нас всех, — возразила она. — Вы же учитель передовой молодежи.
— О нет, я плохой учитель, — покачал головой Таками. — Я знаю и вижу правду, но не могу ее завоевывать. У меня нет решимости к действию. Практика грубой жизни пугает меня.
— Не возводите на себя небылиц, профессор. Ваши мужество и решимость известны нам хорошо, — откликнулся из соседней комнаты Наль, заканчивая приготовления к отъезду.
Он положил поверх белья книги, перетянул чемодан ремнями и, отодвинув тонкую стенку, вошел в столовую. На исхудавшем лице его еще оставались следы утомления и болезни, но в быстром, окрепшем голосе и неторопливых движениях уже пробивалась, как из-под талого снега трава, свежая бодрость.
Профессор Таками смущенно потер кулаком подбородок.
— Я говорю о решимости пролить кровь — свою и чужую, — сказал он, подняв строго брови. — Без нее борьба с фашизмом теперь уже невозможна.
Наль переглянулся с Сумиэ и сел около нее на подушку, палевый шелк которой был расцвечен ярким рисунком рыжей лисы. Профессор опустил глаза к полу, уйдя опять в свою невеселую задумчивость.
— Японцы показывают себя миру жестокими убийцами, — добавил он после паузы. — Но вот я… тоже японец… и я не могу отнять жизни даже у зверя. Все мое существо противится этому.
— Насилие отвратительно, — сказал Наль. — Но если зверь берет человека за горло, душит его, рвет когтями, тогда гуманные чувства бессмысленны и даже преступны! В момент схватки жалость к врагу всегда граничит с предательством…
Наль смотрел на профессора почти с вызовом. Свет электрической люстры падал на черную полировку низкого кривоногого стола, отражавшую лица обоих собеседников. Старик медленно выпрямился.
— О да, вы верно сказали. Мне нечего возразить, — ответил он тихо и виновато. — Но я не молод… И я уже не могу… не умею чувствовать по-другому!
Он говорил с трудом, растягивая слова и запинаясь, как больной астмой. Волнение мешало ему, сметая своим горячим дыханием привычную сдержанность.
Снизу донесся протяжный двойной звонок. Сумиэ пошла открывать дверь. В издательстве был нерабочий день, и внизу не осталось ни одного человека.
Профессор выжидательно повернул голову, прислушиваясь к негромким голосам и шуму шагов на лестнице. Фусума раздвинулась. В комнату вошли Эрна и Ярцев, за ними Като в студенческой куртке и Сумиэ. Ярцев держал в руке несколько номеров «Рабочей газеты».
— Не удержался, оставил на память, — сказал он, помахивая свертком газет, как победным трофеем. — Весь остальной тираж в безопасных местах. Ни одна ищейка не доберется. Можете спать спокойно, профессор: ваши статьи дойдут до читателя.
— А почему же с вами нет Онэ? — спросил встревоженно Наль.
— Разве он еще не приехал?
— Нет.
— Ну, значит, скоро приедет. Для большего удобства мы действовали двумя партиями: Онэ поехал в фабричный поселок, мы — в Канду. И там и тут люди свои… Като-сан в области конспирации прямо художник.
— Устала! — сказала Эрна. — Но зато с каким бодрым чувством поеду теперь. Я так боялась, что мы провалимся… А типография наша совершенно разгромлена. Испорчены все машины… Какие прекрасные цветы! — воскликнула она, подходя к ирисам. — Откуда они?
— Из моей маленькой комнатной оранжереи, — ответил профессор. — В детстве я мечтал о работе садовника… И сожалею даже теперь, что не сделался им. Цветы и дети — это лучшее, что сумела создать природа.
Старик опять казался спокойным. Тени с его лица постепенно сошли. Он посмотрел мимо девушки на высокий букет из голубых, золотистых и бархатно-си-них ирисов теплым, слегка опечаленным взглядом, точно увидев в их кратковременной свежести и красоте отражение своего детства, когда вся жизнь представлялась такой же яркой и радостной, как эти цветы… Как быстро она прошла, эта жизнь!
— Я бы советовал вам не ждать Онэ-сан, — сказал профессор. — Я думаю, мы сумеем приехать с ним как раз к отходу парохода.
— Конечно, — поддержал Гото. — Раньше утра пароход не уйдет. Я справлялся в конторе.
— Зачем же тогда спешить нам? Приятнее проехаться вместе. Поезд до Иокогамы идет около часа, — ответила Эрна.
Сумиэ вопросительно оглянулась на мужа. Она давно стремилась на палубу корабля, как поздней осенью запоздавшие перелетные птицы стремятся всей силой крыльев на юг, боясь быть застигнутыми в пути снегом и холодом. Дни были слишком тревожные. Полицейский налет на типографию не предвещал ничего хорошего.
— Как бы не опоздать, — сказала она неуверенно. — Лучше-бы выехать заранее. Вещи сложены.
— Разумнее, конечно, поехать, — согласился с ней Наль. — Здесь дела кончены, а там еще нужно кое-что оформить по части шифскарт и багажа. Портовые чиновники придирчивы.
Эрна взяла из букета золотистый цветок и продела в петлицу.
— Хорошо. Поедем сейчас. Через пять минут я буду готова, — сказала она, обводя медленным взглядом присутствующих. — Но только пожалуйста, и вы, друзья, не приезжайте к самому отходу. Нам еще хочется побыть с вами, поговорить… Онэ-сан я тоже почти не видела эти дни… Нам очень жаль расставаться с вами!
Сумиэ, стоявшая около подруги, грустно и ласково улыбнулась профессору. Глаза ее влажно блестели. Ей расставаться со стариком было тяжелее всего. Профессор Таками растроганно посмотрел на обеих девушек.
— О, я был бы больше доволен, если бы вы ехали не в Китай, а в Советский Союз, — сказал он, подняв отяжелевшую ладонь к виску и нервно его поглаживая.
— В Китае мы будем полезнее, — сказал Ярцев. — Судьбы всего Востока во многом решаются именно, там — в борьбе китайского народа за независимость.
— Вот потому мне и жаль вас, — вздохнул профессор. — В Китае вас ждет та же борьба с японской военщиной, что и здесь. И даже более страшная.
— Ничего, — перебил его Ярцев. — За тем и едем туда.
Размашисто чиркнув спичкой, он глотнул густой табачный дым, посмотрел озабоченно на часы и, с трубкой во рту, несколько раз прошелся взад и вперед по комнате.