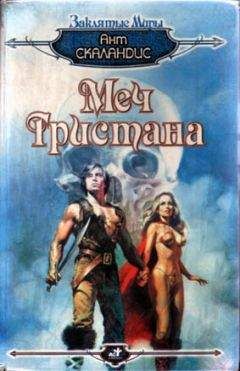Ознакомительная версия.
— Не надо, Изольда, — прошептал Будинас. — Не надо, это безумие. Тебе просто очень плохо без Тристана. Я не смогу заменить его. И вообще мой принцип — никогда не предавать друзей. А такой поступок был бы настоящим предательством. Больше скажу, и тебе после нашей вымученной любви стало бы только тяжелее. Поверь мне, королева. Лучше я. просто еще подумаю, как помочь вам.
Конечно, он был прав, тысячу раз прав! И как он это точно сказал: вымученная любовь. Как, не желая того, жестоко попал в самую болевую точку. Вся ее корявая жизнь, все ее тихие радости после размолвки с Тристаном были вымученными. Разве это достойно королевы Корнуолла и образованной молодой женщины двадцатого века — постоянно идти на поводу у своих плотских страстей, отдаваться им просто потому, что все другие удовольствия оказались недоступны?
«Боже, как низко я пала!»
Это манерное мелодраматическое восклицание, слышанное ею давно-давно (уж не в качестве ли названия какого-то полукомедийного фильма?), — это дурацкое восклицание звучало сейчас для Изольды как строчка из высокой трагедии — трагедии самой жизни.
В тот же вечер она выбросила из окна своей башни над морем волшебный колоколец фирмы «Панасоник», нарочно не выключив его, и голос Натальи Гулькиной, главной солистки «Миража», исполнявшей в тот момент (как будто специально!) супершлягер давнего, «догорюновского» восемьдесят девятого года, красиво удалялся, падая вниз, пока приемник не скрылся в сверкавших кровавым закатным светом ледяных волнах:
Музыка на-а-ас связала.
Тайною на-а-ашей стала.
Всем уговорам твержу я в ответ:
Нас не разлучат, нет!..
И мелодия стихла на точно продуманной ноте, словно какой-то вселенский режиссер именно так и задумал.
С одной греховной страстью было покончено. Оставалась вторая. Изольда уже придумала, что сделает.
Ложась в постель, она на голое тело нацепила монашескую власяницу — жуткую кусачую рубаху из грубой шерсти и конского волоса. О такой штуке рассказывала ей Бригитта, прошедшая через многие методы усмирения плоти в сарагосском монастыре. Рубашечка оказалась знатная. В первую ночь королева и заснуть не смогла, все ворочалась и ворочалась с боку на бок, из последних сил борясь с искушением сдернуть проклятую отшельническую одежду с отчаянно зудящего тела. Однако строго по канонам даже почесываться не полагалось. И она терпела. Она привыкала.
А король Марк, как настоящий любящий муж, все понял и не задавал вопросов. И тоже не спал, беседуя с женою всю ночь на отвлеченные темы.
Изольда поклялась перед Богом носить власяницу на теле, не снимая как минимум до весны. И носила. Даже мылась в ней. Нет, она не перестала замечать раздражающей тяжести и колкости грубой рубашки, она просто притерпелась к этим гадким ощущениям. Притерпелась настолько, что уже ближе к марту вдруг подумала, а не совершает ли она новый великий грех, не начала ли она получать удовольствие от этого самоистязания.
«О Боже! — восклицала Изольда, приходя одна под своды тинтайольского храма. — Если б ты только знал, как мне плохо!»
* * *
Вынырнув из многодневного запоя, Тристан оглоушил с утра бочонок рассолу вместо пива и начал потихонечку замечать мир вокруг себя. Мир, признаться, оказался достаточно противным: грязным, холодным, недружелюбным, но отдельные его фрагменты уже начинали радовать. Например, собака Луша. Или удобная рукоять кинжала, которым он нарезал свежий ржаной хлеб и сало. Да и аппетит вроде проснулся. Жизнь постепенно возвращалась, здоровье восстанавливалось, могучее тело рыцаря в итоге не так уж и пострадало, хотя, наверное, зримо исхудало от почти полного перехода с нормальной еды на одно лишь вино и пиво, от глухой тоски, иссушающей злобы на всех и вся, от тяжелого беспорядочного сна урывками, едва ли не постоянной головной боли и периодической рвоты, сделавшейся привычной. Теперь все это было как будто позади, и подтверждением тому стала добрая улыбка вошедшего к нему в комнату Кехейка, улыбка друга, не показавшаяся издевкой, а искренне порадовавшая Тристана.
— Ну как ты? Ничего? — спросил Кехейк. — Расскажи хоть теперь, с какими вестями прибыл. А то до сих пор ничего путного я от тебя добиться не смог. То веселился как сумасшедший, то заливался слезами. И все как будто бредил.
— И что же говорил я в этом бреду? — поинтересовался Тристан.
— Да знаешь, брат, то одно, то другое. Что любит тебя Изольда Белокурая и будет любить до гробовой доски. И — что ненавидит тебя, знать не хочет, что никогда вы больше не повстречаетесь. Что поплывешь ты в Тинтайоль прямо завтра. И — что покончишь с собою немедленно, потому что жить тебе больше незачем. Что изменяла она тебе со всеми подряд, как и ты ей. И — что были вы верны друг другу всегда, потому как иначе и быть не могло. Чудно ты бредил, Тристан, все подряд лопотал, без разбору.
— Я не бредил, Кехейк, — ответил Тристан. — Все так и есть. Понимаешь, жизнь гораздо сложнее, чем мы привыкли считать, и я не знаю сегодня, что ответить тебе на главный вопрос. Сегодня я еще не готов на него ответить.
— Вот как… — только и сказал первый рыцарь Арморики.
— Да, Кехейк, — грустно покивал Тристан. — Подожди еще немного.
— Хорошо, я согласен подождать до лета.
— До весны, — поправил Тристан. — В апреле я думаю снова отправиться в Корнуолл.
— Поедем вместе. — Кехейк произнес эти слова решительным тоном, не допускающим возражений.
И Тристан понял: брат Изольды Белорукой имеет право посмотреть собственными глазами на Изольду Белокурую. Да и потом, не ровен час придется от врагов отбиваться — вдвоем легче. А в том, что среди тинтайольцев враги у него остались, Тристан не сомневался. И он сказал, быть может, с несколько излишним пылом:
— Обязательно поедем вместе!
— Ну вот и славно, — улыбнулся Кехейк. — Отдыхай, друг.
* * *
После завтрака, плавно перешедшего в обед. Тристан действительно прилег отдохнуть, а проснулся, когда было уже темно. Очнулся в маленькой отдельной комнате, куда привык уходить, когда бывал сильно пьян и ночь напролет орал песни под гитару. Уходил, чтобы не мешать несчастной своей жене. Теперь он сидел в густом полумраке на постели и думал: «Во, повезло-то принцессе! Память отшибли, в звании понизили до дочки герцога, мужа дали, который не трахается, так этот подонок плюс ко всему оказался гулякой, алкоголиком и дебоширом».
И до того Тристану жалко стало несчастную девочку белорукую, что он едва не разревелся — похмелье-то еще давало себя знать: организм ослаблен, нервишки шалят. И захотелось сделать для женушки что-нибудь приятное. Он даже не успел придумать, что именно, когда ноги уже завели его в их совместные супружеские покои.
Тристан тихо открыл дверь, держа в левой руке зажженную свечу. Он ожидал застать Изольду спящей при полностью погашенном свете, но над пологом широкого брачного ложа в центре комнаты горели четыре факела, а Белорукая сидела ко входу спиной и что-то делала, шумно дыша. Красавица была так увлечена, что не услышала скрипа двери и звука шагов. Тристан подошел ближе, увидел торчащие из-под задранной ночной рубашки и разведенные в стороны колени, увидел левую руку, отставленную назад и судорожно впившуюся в подушку, и наконец все понял. Он бы и раньше сообразил, да как-то не решался поверить.
Теперь он стоял так близко от нее, что уходить казалось нелепостью. Тупо ожидать финала, наблюдал со спины, — еще глупее. И Тристан тихонько кашлянул.
Правая рука Изольды мгновенно замерла, потом, стремительно поднявшись и сверкнув в свете факелов мокрыми пальцами, воровато юркнула в складки простыни. И лишь затем голова ее медленно повернулась. Испуга не было, испуг уже прошел, в синих тоскующих глазах плавало непонятное выражение — сложная смесь стыда, радости и боли, неутоленного желания и надежды, робкой мольбы и наглого вызова — всего, всего одновременно.
Тристан догадался: секунду назад с закрытыми глазами она видела перед собой его же. Поэтому теперь ей не от чего было вздрагивать: муж уже стоял перед ее мысленным взором, теперь он просто как бы материализовался. И Белорукая повернулась к нему всем телом, лицо ее расплылось в невольной улыбке, а Тристан ответил тем же, чтобы не обидеть. Потом Изольда, как бы спохватившись, прикрылась рукой, судорожно сдвинула колени, зажав ладонь между ляжками, и в ту же секунду блаженно зажмурилась от нового сладкого ощущения.
Тристан совершенно не представлял себе, что можно сказать в такой ситуации, и жена опередила его.
— Можно я доделаю это при тебе? — прошептала она. — Мне очень хочется, мне просто надо…
— Можно, — хрипло ответил он, удивив этим сам себя.
И Белорукая снова развела ноги и продолжила. Она уже не закрывала глаз, она смотрела все время в лицо любимому мужу, и настоящий восторг все откровеннее пылал в ее голубых глазищах, распахнутых шире некуда, и рот ее был раскрыт в ожидании стона, и ноги, и губы между ними — вся она была распахнута навстречу любимому, и конечно, он не мог не возбудиться, и он уже почувствовал, что сделает сейчас какую-нибудь глупость, но Изольде было слишком хорошо, и жаркая сладостная мука настигла ее раньше обычного, и она закричала, а потом, тихо поскуливая, свернулась, сжалась в комочек, как белая лилия, уходящая вечером на дно речной заводи.
Ознакомительная версия.