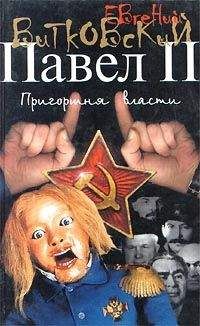К вечеру принц не только исповедался и получил все, что Российская Истинноправославная Церковь исповедующемуся дозволяет, но и стал проситься в монахи. Батюшка Викентий, принадлежа к белому духовенству, ничего по этому поводу ответить не мог, посоветовал обратиться в Святейший Синод, лучше сразу к тамошнему обер-прокурору, господину Досифею Ставраки. Царевич по слабости чувств не удержался и пробормотал уличную дразнилку, которой босяки-мальчишки провожали ЗИП обер-прокурора: «Собаки Ставраки жуют козинаки, жуют козинаки, танцуют сиртаки!..» Батюшка вздохнул и порекомендовал насчет монашества все-таки сперва обратиться к высочайшим родственникам, ибо без их ведома нынче стричь не велено, были уже попытки, и кто-то их сверху пресекал — уж не сам ли царь? Батюшка подобрал рясу и заспешил к вечерне. Собор у него был большой, но тесный, а деревня — известно какая. Отец Викентий даже сожалел, что храм никак нельзя перестроить, чтобы попросторней стало. На полпути священник встретил стадо коров, возвращавшихся с Васильевского выпаса. Пастухом в селе нанялся служить какой-то бывший знаменитый эстрадный певец; хоть и еврей, он исправно бывал у службы, и гордился, что зовут его по-библейски. На шее у передней коровы позванивал старинный валдайский колоколец. Определенно священник рисковал опоздать к службе, очень его принц задержал исповедью.
Ромео не выпустили из избы-люкс даже на утро, только невкусным молоком все поили да поили. Царевич стал требовать хотя бы телефонного разговора с государем, ну, не с государем, так с дядей, не с дядей, так с отцом, нет, с отцом не надо — ну, с тем, кто здесь главный хотя бы, поговорить-то можно? Не тюрьма ж? Или тюрьма?.. А-а… Ромео глотал слезы.
Кто в деревне главный — сомнений за последние полвека никто не имел, кроме сестер-поповен, а те на Брянщине остались. Бабы скоренько дали знать сношарю-батюшке, что тронутый царевич желает говорить с «главным». Поставленный обо всех пикантностях царевичевой биологии в известность, сношарь назначил аудиенцию на утро, а сам устроился на лежанке — думать. Ясно было, что парня лечить надо. Куда ему в монахи, телку такому? Лечить сношарь в жизни своей долгой тоже обучился, но средствий главных знал два: баня с пивом да с черешневой, ну, а второе средствие известное — работа, работа, работа.
«Телок» был приведен к двенадцати, весь зареванный, весь в черных кудрях, — новых кровей, таких в деревне еще не запускали. А что, может, передумает? Если он считает, что в мужика для него черт ложку меда сунул, так стало быть, надо доказать ему, что в каждой бабе — пять таких ложек, да еще мед подуховитей будет. Сношарь не сравнивал, но не сомневался — он от баб в жизни много чего наслушался. Приказал топить баню, вытащил корчагу светлого городского пива и приказал Ромео пить. Тот с ужасом поглядел на великого князя, тот выглядел примерно так, как для непривычного взгляда овцебык, и выпил кружку. На закуску сношарь персонально облупил парню крутое яйцо. Ромео тоже не посмел отказаться. Потом долго молчали. Сношарь ни с какими мужиками разговаривать правильно не умел, а Ромео боялся подать голос.
В бане, где несчастный принц приготовился к любому виду насилия над собой, была дикая, ни с чем не сравнимая жара, ибо сношарь не любил тепло на ветер пускать. Сношарь покрутил носом, и остался недоволен.
— А ну-ка при-на-под-дай! — крикнул он кому-то в щель, и невидимые руки опрокинули кадку темного пива на голую каменку. Дух пошел такой, что Ромео немедленно окосел. Сношарь взял в руки два шланга, — зачем-то были тут оборудованы еще и шланги, — и стал хлестать бедолагу то такой струей, которая ледяная, то другой, которая горячая. Ромео сидел у стены и сам не знал, в сознании он, или без него, или вообще давно умер. Длилось это все вечность и еще того много больше. Когда сношарь счел, что парень ошпарен и охлажден должным образом, то крикнул в щель:
— Га-а-товв!
В баню строем вступили шесть отборных Настасий среднетяжелого веса, целомудренно препоясанных холщовыми передниками. Они как великую драгоценность подняли Ромео на вытянутых руках и, словно тело другого шекспировского персонажа, унесли. Впрочем, недалеко, — всего лишь в менее жаркую комнату, посредине которой возвышалась личная сношарева бочка, до половины полная желтков, пожалованных вдовому царевичу великим князем из личной казны. Юношу сложили под углом в сорок пять градусов и, бесчувственного, усадили в бочку. Две Настасьи остались поддерживать его в сидячем положении, третья встала напротив принцевой морды с ручным вентилятором, четвертая подала братину с охлажденной черешневой, пятая аккуратно разжала парню зубы, шестая чайной ложечкой стала вливать ему питье за щеку, чтобы не подавился: так дают лекарство строптивым или погруженным в обморок собакам. Через минуту-другую Ромео глотал сам, оклемался немного. Настасьи соблюдали меру, сношарь-батюшка строго наказал, чтобы царевич не сблевал ни в каком разе, а то все сначала начинать, бочку снова желтками накокивать. Яйца-то у сношаря были известно откуда, против себя Настасьи умели не действовать.
Но Ромео не сблевал, а потихоньку пил, и скоро пинтовая бутылка черешневой, первоначально влитая в братину, превратилась в воспоминание. Великий князь зашел поглядеть, лично подошел к парню, обтер ему лицо холодной тряпкой. Подворотил принцу веко. Слегка похлопал кривопалой лапой по щеке.
— Будет притворяться. Тебе тут еще два часа откисать. Черешневой ему пока хватит, — сношарь разговаривал уже с Настасьями. — А пить захочет — пива давайте. Моего. Без никаких. Потом в постель отнесете. Охрану поставьте, внутри и снаружи, сами понимаете, человек впервой.
Сношарь пошел ополоснуться. Для себя он на сегодня яичную баню не планировал, а с четырех пополудни начинался у него обычный рабочий день.
Пива Ромео дали не скоро, он попросту проспал все два часа желткового сидения. Позже его, отхлебнувшего и уснувшего по новой, ополоснули, завернули в простыню, вшестером подняли и отнесли в подновленную избу-люкс. И тогда принц захрапел. Настасьи дивились: молодой вроде парень, а храпит, как матерой. Могутно. С парнем что-то и вправду происходило, дежурившая наиболее «внутри» Настасья потом до конца жизни об этом рассказывала, и повесть ее обрастала подробностями, притом не менее шести Настасий утверждали, что именно они-то и дежурили в тот знаменитый день у лежанки принца. Парень изгибался во сне, словно делал гимнастический «мостик», поворачивался два-три раза в одну-сторону, потом в другую, принимал позу раба, пытающегося разорвать цепи ну вылитый мировой пролетариат! Под конец парень вцепился в подушку зубами и прогрыз насквозь. Отоспался только к позднему вечеру, открыл глаза, запросил пива. Настасья чуть не закричала: кареглазый царевич смотрел на нее светло-голубыми глазами! Однако дисциплина взяла верх, пива Настасья подала царевичу недрогнувшей рукой.
Что было дальше — позже толком никто не мог выяснить, никто из самых дотошных и очень многочисленных историков села Зарядья-Благодатского. В общем, ту Настасью, которая сидела возле постели — не то была одна из шести эта баба, не то все шесть сразу, как утверждала поздняя школа схоластов, царевич Ромео сгреб с силой, которой никто в хрупком горожанине предположить не мог, не быстро оприходовал и отпустил лишь тогда, когда означенная Настасья помнила из всей своей биографии лишь то, что она — Настасьина, кажись, дочь, и размышляла об одном: сколько же теперь яиц платить?
К тому времени, когда новая полудюжинная смена Настасий пришла к избе царевича, если историки села не врут, первая шестерица была вся в состоянии к несению строевой службы не годном и ни о чем, кроме новых яичных долгов, не разговаривала. Яиц, впрочем, за услуги с них Ромаша так никогда и не востребовал, в поле его голубого взора попала новая смена, — ну, а дальше историкам верить вообще невозможно, есть мнение, что дальнейшие события носят чисто легендарный характер и восходят к известному тринадцатому подвигу Геракла, касавшегося неподтвержденных пятидесяти девственниц. Рассказал бы кто самим бабам, что их историки девственницами обзывают, они бы тех историков в Неглинку спустили, а насчет прочего — это их личное бабье дело, потому что мозгляк был ваш Геракл.
Луке Пантелеевичу, конечно, тут же донесли — впрочем, наступило уже позднее утро послебанного дня. Великий князь долго и подробно выспрашивал все детали у принесенных к нему на носилках шести первых Настасий и ругал их за беспросветную бабскую глупость, ругал, ругал. А сам в душе очень радовался. Особенно князю нравилось, что новую смену караула Ромаша встретил, сидя в профессионально сношарской позе: на койке, руки в колени, локти врозь, оба глаза голубые, несосредоточенные. Князь послал с вестовой Настасьей царевичу корчагу лично им сваренного темного пива, мысленно соображая, скоро ли та вернется, или вообще болезную на носилках принесут.