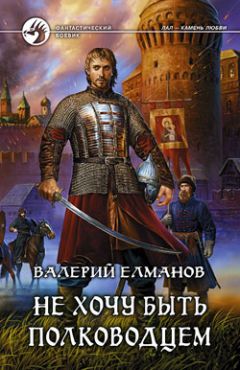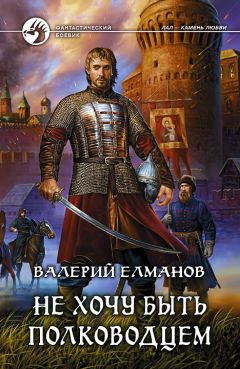Получилось очень выразительно. И оскорбительно.
— Все одно — не поверят иноземцу. Наш род — исконный, древний. Мы от святого князя Михайлы Черниговского корень тянем, а ты — фрязин. Как ни тужься — не выйдет у тебя сковырнуть нас с тех высей, — выдавил он.
— Голос уже не на скрип — на скрежет похожим стал. Не иначе как достал я его, а вывести противника из себя — залог победы. Это в бою ярость полезна, да и то до определенного предела, а в споре…
Но не зря же мне мама еще в детстве говаривала, что я ни в чем меры не знаю. Намерения-то были у меня самые благие — вывести его из себя окончательно, только хорошо бы при этом не забывать — иное время, иные нравы, иная реакция на оскорбление. А у меня из головы вон, иначе я бы не сказал того, что вырвалось в следующий момент:
— Да я не только сковырну — я еще и, спустив штаны, в дерьме весь твой род вымажу, а на тебя лично, старик, вот такую кучу навалю — в жизнь не отмоешься. — И я обеими руками, широко разведя их в стороны, наглядно показал размеры. — Это прадеда у тебя Долгоруким прозвали, а тебя Вонючкой нарекут, и будешь ты Андрей Тимофеевич Дерьмо.
Я уже и сам, едва все это выпалил, почти сразу понял — погорячился. Явный перебор. Оскорбления — их тоже дозировать надо, чтоб через край не полилось, да еще смотреть, какая посудина. Одному и сотни слов мало с его слоновьей шкурой, а другому и десятка за глаза. А я от души плеснул, щедро. Вот и перелил.
Взвизгнул Андрей Тимофеевич так же, как и говорил, — словно железякой по стеклу провел. И тут же плюнул мне в лицо.
Наверное, немного обиделся.
От неожиданности я даже не успел увернуться. Кулак княжеский, правда, перехватил вовремя, хотя тоже поздновато, почти у самого лица. Резко вывернув его и заломив к запястью, чтоб взвыл, гад, я прижал его локоток второй рукой и мстительно потянул вверх, от чего богомерзкий старикашка невольно изогнулся, уткнувшись мордой чуть ли не в самый пол.
Стукать поганую харю о половицы я, правда, не стал — удержался, но лучше бы стукнул, чем наступать на услужливо расстелившийся под моими ногами белый коврик. Ну да, из его бороды.
Клянусь, оскорбить не хотел. Нечаянно оно вышло, совсем нечаянно. Рассчитывал просто сапог перед его гнусной мордой поставить, а то разошелся дедуля не на шутку. Ну а дальше и вспоминать не хочу.
Мы не довели нашу ссору до логического русского конца, то есть до мордобоя, но это было слабым утешением. Все равно после такого «душевного» разговора с будущим тестем речи о примирении быть уже не могло в принципе.
Когда довольный Воротынский вернулся с царского пира, Долгорукого и его холопов уже и след простыл. Узнав, чем закончилась наша милая беседа, князь только укоризненно покачал головой, но потом, очевидно представив видок моего тестя, весело расхохотался. Впрочем, по-настоящему до него дошло лишь наутро, когда он, позвав меня, заставил повторить все в подробностях и попенял мне за несдержанность.
Хотя ежели бы со мной так-то, я б тоже того, — добавил он в конце, после чего, поморщившись, осушил очередной кувшин с квасом, приложив запотевшую от холода крынку ко лбу — никак перебрал на радостях, — и мрачно посулил: — Ну теперь готовься. Ежели мы его не упредим — быть худу. Пока к заутрене звонят, надобно поспеть к царю, чтоб опосля службы сразу с челобитной, потому как завтра царь непременно призовет к ответу.
— Так скоро? — удивился я.
— В иной раз бог весть когда, а ныне — да, потому как завтра Семенов день[5].
— Семенов день, — тупо повторил я и вопросительно уставился на Воротынского.
— Ну да, — пожал он плечами. — Первый день нового года. Ныне у нас еще лето семь тысяч восьмидесятое от Сотворения мира, а завтра уж семь тысяч восемьдесят первое начнется, потому к нему и дани с пошлинами приурочивают, и оброки. Ну и царев суд тоже в него вершится.
«Мамочка моя!» — чуть не ахнул я. Почему-то лишь сейчас до меня дошло, что я со всей своей возней провел в шестнадцатом веке чуть ли не три с половиной года. Раньше как-то не до подсчетов было, а тут… Неужто три с половиной?! Ну да, так и есть, угодил-то я сюда, если по-местному, весной семь тысяч семьдесят восьмого, то есть, если от Рождества Христова, в тысяча пятьсот семидесятом, а ныне…
Стоп-стоп! Наш-то год еще не закончился. Получается, на дворе пока что конец лета семьдесят второго, и осенью, включая первый месяц зимы, тоже будет семьдесят второй, который продлится аж до 31 декабря. Тогда выходит, что я здесь блукаю гораздо меньше — всего два с половиной года. Ну это еще куда ни шло, хотя тоже хорошего мало…
— А ежели не явимся к ответу, стало быть, на тебе вина, — донесся до меня издалека голос князя. — Ладно, до вечера составим челобитную, а уж к завтрему поутру… — И пожаловался, кивая в сторону невидимых колоколов: — Ох как они громко надсаживаются-то.
— Это не к заутрене звонят, — уныло поправил я его. — К обедне.
— У-у… — протянул Воротынский полуогорченно, но в то же время полуоблегченно, поскольку ехать становилось уже поздно и можно было бережно отнести больную голову к мягкой перине.
Челобитную ближе к вечерне мы все же составили, но, по моей просьбе, в самых обтекаемых выражениях и без единого упоминания о ведьмах, корешках и самой царской невесте.
Нет ее. Все. Померла. Шабаш.
Даже о серьгах я не помянул, заметив, что коли Андрей Тимофеевич не дурак, то он тоже о них ничего не скажет.
Он и не сказал. Зачем? Всего остального в челобитной, которую Долгорукий успел подать царю, хватало с избытком. Хорошо хоть то, что мы назавтра разминулись с царскими гонцами, посланными за мной. Когда они подъехали к подворью Воротынского, мы уже находились на полпути к Кремлю, то есть прибыли сами, без зова.
«А теперь, забияки, шагом марш в кабинет к директору», — строго сказала учительница расшалившимся школьникам.
Кабинетом на сей раз служил даже не Приказ Большого дворца, где Иоанн обычно чинил разбор дел, а Грановитая палата. Директором же был усталый мужик с отечным лицом, нездоровыми мешками под глазами — почки лечить надо, и обрюзгшими щеками. Словом, наглядная картинка, еще раз подтверждающая, что бодун — самая демократичная болезнь на Руси, и плевать ей на твои титулы и звания. Хоть смерд поганый, хоть царь светлейший — все одно.
Пожалуй, если бы я был на службе у кого-то иного, то, как знать, может, царь вообще бы отмахнулся от Андрея Тимофеевича. И уж во всяком случае ни за что бы не стал собирать такую толпу, да еще столь торопливо. Но Воротынский был герой, триумфатор, победитель татар, которого нужно срочно осадить, втоптать обратно, чтобы не сильно возвышался над прочими, а тут напрашивался замечательный повод, и упускать его завистливый до чужой славы Иоанн Васильевич не хотел. Потому он и выбрал для судилища самую здоровенную палату в своих покоях — заботился о зрителях.