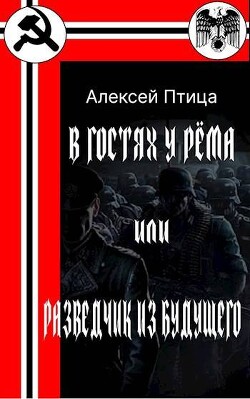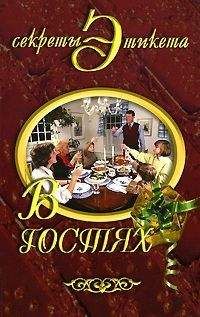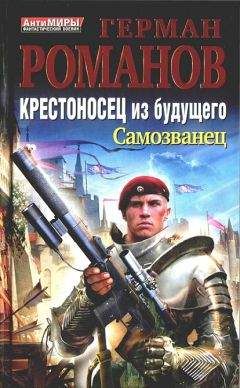считаться в верхних эшелонах власти в Германии? — предположил чекист.
— Да, другого выхода нет, — нехотя согласился с ним Шириновский. — Правда, не знаю: получится ли? Я бы уехал отсюда и забыл про всё. Не люблю я вас, фашистов.
— Не выпустят, — тут же разочаровал его Маричев. — Слишком уж крепко я с ними повязан. Не простят, да и свои тоже спуску не дадут.
— А может в Бразилию рвануть? Или в Панаму⁈
— Бесполезно, везде достанут.
— Ладно. Но ты будешь мне помогать! — тут же поставил условие Шириновский.
— Согласен! Разве у меня есть другой выход? Тем более лавры победы мы всё равно поделим пополам.
— Тогда по рукам!
— По рукам!
Виртуальные руки схлестнулись во взаимном проникновении, и голос исчез. Прежняя личность владельца тела почти полностью растворилась в личности Шириновского, став его вторым Я. Слабым и мало на что способным повлиять. Однако с этого момента Шириновский постоянно слышал голос Маричева в своей голове. И отделаться от него так никогда и не смог, как потом ни старался.
Шириновский-Меркель-Маричев пребывал в смятении. Он только недавно ощутил себя в чужом теле, а уже столько всего произошло, точнее, случилось в его мозгу. Прям адский калейдоскоп. «Нет, фашистский!» — поправил он сам себя.
— Я не фашист, — тут же поправил его отозвавшийся откуда-то со стороны затылка голос прежнего владельца тела.
— Молчи, нацистская сволочь! — чуть устало отмахнулся от него Шириновский и погрузился в долгие размышления.
— Прошу не забывать, что я коммунист и здесь по заданию партии, — не унимался зловредный внутренний оппонент.
Но Шириновский проигнорировал это замечание, полностью сосредоточившись на собственных думах. Это лишь на публике он позволял себе размахивать руками, входя в раж, или выкрикивать разные оскорбления, ничем себя не сдерживая. Наедине с самим собой он никогда здравомыслия не терял. Сейчас же положение осложнялось тем, что все его размышления происходили в чужой голове, и он не понимал: какую их часть слышит или чувствует его оппонент, а что из дум Шириновского проходит мимо Маричева?
— Да всё я слышу, вижу и чувствую: и о чём ты думаешь, и мысли твои, и воспоминания, — тут же встрял в его думы Маричев-Меркель.
— Ага! Я так и знал, что ты подслушивать будешь.
— Я же шпион. Как я могу не подслушивать⁈
— Ага, да ты, ты…! — Шириновский просто не находил слов, чтобы выразить своё возмущение.
Хотелось схватить стакан с соком и выплеснуть его на этого разведчика или соглядатая в собственной (а в этом Вольфович уже нисколько не сомневался) голове. Однако стакана в голове не имелось, да они и так уже успели подраться.
В ответ раздался лишь скромный смешок его оппонента.
— Так, давай договариваться: ты не подслушиваешь меня, а я тебя, — пустился на поиски компромисса Шириновский.
— А какой в этом смысл? Ты и так занял мою голову и отодвинул меня на задний план, но я же никуда не делся. Отныне то, что знаю я, знаешь и ты, а то, что знаешь и думаешь ты, известно мне, — заявил ему голос.
— Ты врёшь, нацист! Не слышу я твои мысли! — возмутился Вольфович.
— Это потому, что ты стал главным. Мои мысли тебе недоступны, потому как они не имеют для тебя никакого значения! А вот твои для меня очень важны, поэтому я их и слышу. У тебя есть доступ к моей памяти, но, чтобы ты мог услышать моё мнение по какому-либо вопросу, я должен его высказать вслух. Мои возможности ограничены, а я в твоей власти.
— Гм, юлишь и изворачиваешься⁈ — Шириновский не был склонен верить кому ни попадя, да и вообще кому-то верить. Всегда, везде и во все времена политиками становились весьма циничные люди, на которых обычно новые печати негде поставить, настолько всё занято старыми.
— А шо делать? Кому сейчас легко⁈ — усмехнулся Маричев.
— Ясно… А ну, давай тогда, открывай свою память!
— Извольте, — раздалось в ответ, и перед Шириновским резко распахнулись виртуальные ворота чужого сознания.
«Чужая душа — потёмки!» — успел он подумать старой пословицей и рухнул в пучину чужой памяти.
На Шириновского обрушилась целая лавина самой разнообразной информации! Потоки мегабайтов буквально окружили его разум со всех сторон, затмили сознание, перевернув всякое представление о времени и месте. В чужой памяти он копошился довольно долго, тщательно изучая основные события из жизни Меркеля-Маричева. Пришлось даже перекладывать кое-что в свою, что сохранилась у него практически полностью. Вынырнул Шириновский лишь тогда, когда ему принесли обед.
Старая женщина, одетая в платье палатной медсестры, придвинула к нему железный передвижной столик и, поставив на него тарелку с противной даже на вид и какой-то серо-синюшней кашей, осторожно дотронулась до его лба.
— Герр Август, вы меня слышите? — спросила она его по-немецки.
— Да, — еле слышно ответил он, выныривая из памяти своего соседа по голове.
— Есть будете?
— Да.
— Пожалуйста.
Взяв в дрожащую руку тяжеленную для него сейчас ложку, он начал черпать кашу и через силу пихать в себя сваренную на воде овсянку. Хорошо хоть, она оказалась солёной. Впрочем, Шириновский быстро устал. Каждое усилие давалось ему с огромным трудом, виски постоянно пронзало болью. Вскоре он покрылся испариной, и остатки каши ему скормила с ложки старая фройляйн.
— Данке, — пробормотал еле слышно Шириновский, и сиделка ушла, оставив его, как ей казалось, в одиночестве.
В изнеможении слившись с подушкой, Шириновский вновь стал разбираться с чужой памятью, ловя обрывки чужих воспоминаний и анализируя их. «Вот попал, так попал!» — думал он, сравнивая желаемое и полученное.
Ведь просил же Боженьку не отправлять его в Германию! Угораздило же… Лучше бы в Грецию отправил, где всё есть! Впрочем, чёрный юмор того, кто направил его именно сюда, он оценил. Но ничего, внешность у него должна быть вполне арийская, хоть в зеркале он пока себя и не видел, а всё остальное приложится. У него столько опыта! Куда там этому Маричеву⁈ Тот только воевать и умел, да простейшие навыки разведчика имел. До Штирлица или ему подобных бывшему владельцу этого тела, ох, как ещё далеко.
«Эх! Опять всё с нуля начинать, опять всё с нуля…» — Шириновский мысленно схватился за голову, весь вне себя от злости.