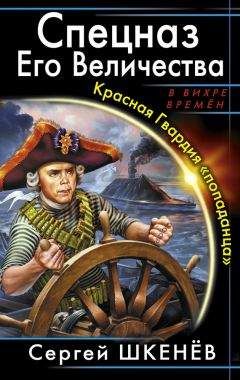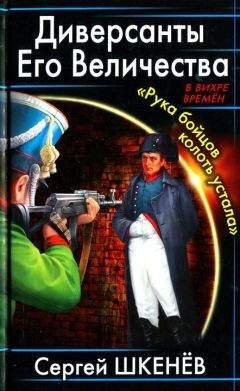Извольте вернуться в свои покои.
– Государь, Вы тут… – Волнуется? – Холодно нынче, вот возьмите…
Только сейчас ощутил озноб. Он появился как-то разом, незамеченный ранее из-за напряжения и общей взвинченности.
– Спасибо. – Протягиваю руку за тёплым плащом с меховой подкладкой и соприкасаюсь с её рукой. – Спасибо, душа моя.
Улыбка ярче. И этот болван мог думать о других женщинах?
– Я беспокоилась. Ночная стрельба, Вы появились и снова исчезли, караул не выпускал… Я боялась за Вас.
Бенкендорф успел выставить охрану? Незаменимых людей не бывает, но у Александра Христофоровича, судя по всему, есть все предпосылки стать первым таким.
– Спасибо. – Сил нет отпустить узкую горячую ладонь. – Спасибо, Маша.
– Вы изменились, Ваше Величество.
Чёртова женская проницательность! Разглядела то, в чём и сам ещё не разобрался. Что ответить? Да, дорогуша, я не император, а боец Рабоче-Крестьянской Красной Армии, и поэтому вместо менуэта с гавотом мы спляшем кадриль под гармошку. Так?
– Что это мы как немцы? Давай уж за-свой, чай не один год вместе.
Оказывается, у неё такие красивые глаза! Особенно сейчас, широко распахнутые от глубочайшего изумления. И опять улыбка тронула губы.
– Нет, уже не немцы. И ты стал другим.
– Это только кажется.
Мария Фёдоровна не находит ответа, только вздрагивает от звуков ударов, раздаваемых гренадёрами особо строптивым арестантам. Плащ сам собой оказывается на её плечах.
– Замёрзла совсем?
– А ты?
– Пустое… Так, может, чайку прикажем?
– Господи! – знакомо всплеснула руками. – Поди с вечера голодный!
И засуетилась в извечной женской заботе: накормить вернувшегося домой мужчину. И неважно, с войны ли, с работы ли…
Завтракали по-простецки, чуть ли не в походных условиях. Видимо, повара или разбежались, убоявшись случившихся событий, или обленились до такой степени, что прямо вот готовые кашевары в Сашкины штрафные батальоны. Впрочем, я и в прошлой жизни (в том смысле – в настоящей жизни) едок непереборчивый, а после бурно проведённой ночи и вовсе могу хоть собаку съесть.
Лакеев прогнал, нечего нарушать некоторую доверительность обстановки, провожая взглядом каждую отправляемую в рот ложку. Пусть и смотрят со спины, но не люблю. Справлюсь сам, чего уж тут. Да и стол почти пустой: горячих всего два – щи да суп, два холодных, четыре соуса, два жарких, пирожных два сорта, десерт… А конфеты? Где, спрашивается, конфеты? Мне за дамой ухаживать, а скотина-кондитер не озаботился приготовить сладкого? В Сибири сгною паскудника!
– Павел?
– Да, душа моя?
– У тебя так переменилось лицо…
– Вздор!
– Вот опять! Ты каждый раз другой.
– И который лучше?
– Не знаю, просто вдруг глаза становятся такими… не знаю, как сказать…
– Добрыми? – пытаюсь свести разговор к шутке.
– Добрыми, – соглашается она без всякой весёлости. – И мудрыми. Даже немного грустными. Так смотрят люди, видевшие смерть.
Вот оно что… Глаза – зеркало души. А кто я есть теперь, кто через них смотрит? Я – рядовой Романов, которому снится жизнь императора, или же император, в воспаленном мозгу придумавший страшное светлое будущее со страшной войной? Ответа нет. Есть? Я – Павел Первый! Павел Первый с половиной… Ещё бы узнать, какая из половин настоящая.
– Так видел.
– Кого?
– Её, смерть. Вот представь: меня вчера убили.
– Не говори так!
– Да-да, убили. Нет прежнего Павла, того, что был когда-то. А новый… новый только рождается. Как водится, в крови и муках.
В ответном взгляде вместо ожидаемой жалости к убогому неожиданное понимание.
– Расскажи.
– О чём?
– Какая она, смерть? Безносая старуха с косой, да?
– Ну почему же? Вполне приличная молодая леди.
– Леди?
Почему я так сказал? Да первое, что в голову пришло, и сказал. Поправляться не буду.
– Мне так показалось. Было в ней что-то английское.
– Леди, значит, – повторила в некоторой задумчивости. – У твоей смерти английское лицо…
Если бы только такое! В виденном мной будущем оно ещё и немецкое, австрийское, румынское, итальянское – разное. И это не считая прочей швали. А тут всего-то делов – англичанка гадит. Естественное состояние, она разве когда-то умела иначе? Ничего, вот ужо Платов доберётся до Индии, возглавив национально-освободительную войну угнетённых индусских ширнармасс против британского колониализма, мало не покажется. Арестованные в русских портах корабли – ещё цветочки…
– Ваше Императорское Величество!
Ну нельзя так орать над ухом, когда я кушаю. Заикой стану или более того – подавлюсь, и осиротеет держава.
– Чего тебе, прапорщик?
Офицер из вновь произведённых лейб-кампанцев щёлкнул каблуками башмаков:
– Там это… – запинается, не зная. как объяснить. – Александр Павлович спрашивают дозволения войти. Попрощаться хотят.
– Зови.
Вот и очередная семейная сцена назревает, с теми же действующими лицами, но без посторонних.
– Ты был с ним суров. – Мария Фёдоровна ни единым словом не упоминает об устроенной в защиту старшего сына истерике. – Не жалко родную кровь?
Сказать: не, не жалко, и что только армия сможет сделать из него человека? Не поймёт и обидится.
– Так нужно, душа моя. Запах пороха быстро выветрит из головы вольтерьянскую дурь, а звон шпаг и пушечный грохот вообще несовместимы с бредовыми идеями господина Руссо.
Александр вошёл и остановился на пороге, то ли ожидая особого приглашения, то ли демонстрируя покорность воле отца-самодура, то ли оценивая эффект, произведённый новым нарядом. По мне, так нормально смотрится. Может, и самому переодеться во что-нибудь казацкое? Мягкие сапоги вместо говнодавов с голенищами выше колен, широкие шаровары… Точно, а то из-за натёртых лосинами ляжек хожу враскорячку. Кафтанчик тоже ничего, только серебряные пуговицы заменить костяными, чтобы снайперы… Ах да, откуда здесь снайперы.
– А ну, поворотись-ка, сынку, какая смешная на тебе свитка!
Сын захлопал глазами. Видимо, готовился ко всему, вплоть до разноса по поводу отсутствующего парика с буклями, но не насмешки. Мальчишка, хоть и давно женатый, всё хочется убедить родителей в способности принимать самостоятельные решения. Одобрительно хлопаю его по плечу, для чего пришлось встать из-за стола и привстать на цыпочки:
– Орёл, мать твою! Машенька, это не тебе. С чем явился?
– Вот, Ваше…
– Титулование для парадов оставь. Ну?
Протягивает сложенный вчетверо лист бумаги:
– Прожект арестантского батальона, государь.
– Штрафного, Сашка, штрафного! – И объясняю уже помягче: – Мы же людям даём возможность искупить, так? И зачем им потом всю жизнь носить титул арестанта?
– Но позвольте… – вскидывает белобрысую голову.
– Не позволю! – пробегаю глазами бумагу. – Зачем тебе старые казацкие «сороки»? Вычёркиваем. Твоё дело не в осадах сидеть да приступы отражать, а… хотя… Ты чухонцев любишь?
– В котором смысле?
– В самом прямом. Забирай своё каторжное войско да отправляйся в Ревель, будешь учиться морской десант отражать. В Ревель я сказал! Чтобы через неделю в Петербурге ни одной сволочи не было! Указ напишу, да… И на эскадру напишу, пусть помогут немного.