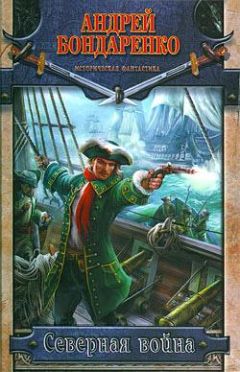Ознакомительная версия.
— Прав! — согласился Егор. — Но давай, Юрьевич, все же перейдем к моей скромной персоне. Чего о покойниках рассуждать?
— Это верно, про покойников-то! — поддержал его Ромодановский. — Им-то, точно, уже ничем не помочь. Сколь ни старайся… Короче, я так рассудил. Если Брюс узнает, что ты безвозвратно погиб, то, наверняка, станет гораздо сговорчивей. Что усмехаешься? Прав я? Одно только плохо, что поздно я додумался про это. Старость, мать ее… Ладно, разыграли ситуацию — по этим, как иноземцы говорят — по нотам. Объявили Якову — так, между делом, что ты, Данилыч, погиб. Ну, при штурме все того же Нотебурга. Мысли-то мои были просты: нет тебя больше, следовательно, и Брюсу нечего опасаться — вскрытия ответной тайны… Как бы так — я рассуждал. Чего заулыбался-то, одобряешь? Правильно, что одобряешь… Тут-то вот все и сложилось — в единую картинку — как ты сам и любишь говорить… Брюс, надо ему отдать должное, сперва не поверил. Но мы на восточном подмосковном кладбище выстроили твою могилку, Данилыч. Ты уж извини! Настоящую такую, славную, с памятной табличкой и мраморным памятником: кавалер знатный в шляпе, с бронзовой шпагой в ножнах на левом боку… А еще молоденькую дворянку нашли одну, которая здорово похожа на твою жену, прекрасную Александру Ивановну. Ростом, стройностью, фигурой, волосами серебристыми… Яков-то к этому времени и слухом сделался слаб, да и зрение его единственного глаза ухудшилось. Ну, все и прокатило. Встретился Брюс — около твоей, Данилыч, могилы — с твоей же «вдовой», ну и поверил… А после этого и рассказал про все, что знал, более ничего не опасаясь. Главным образом, про фосфорные спички и про французского доктора. Сразу же взяли и господина Карла Жабо, вздернули на дыбу… Сознался он во всем, конечно же. Причем почти сразу. Как ты подговорил его, еще в 1995 году, государя обмануть… Когда об этом доложили Петру Алексеевичу… Тебе про это лучше и не знать, охранитель! Даже я по этому поводу лишился переднего зуба. Да и поделом: недосмотрел в свое время… Очень уж государь убивался и сожалел. Не, это я не про тебя, Данилыч, а про русских баб и девок, которые — по твоей милости — прошли мимо государевой постели… На этом следствие и закончилось. В горячке Петр Алексеевич повелел: отрубить всем подлым ворогам головы. Это я про Брюса, Карла Жабо и Аль-Кашара. Отрубили, понятное дело… Теперь по твоей мерзкой персоне. Сперва и тебя государь хотел казнить: четвертовать, предварительно оскопив, ободрав кожу и выколов глаза. А жену твою, прекрасную Александру, отдать на солдатскую жаркую потеху… А потом вдруг передумал. Может, просто пожалел, а может, и не просто… Короче. Вот тебе, господин бывший генерал-губернатор Ингрии, Карелии и Эстляндии, письмо от государя, — протянул обычный темно-коричневый конверт. — Прочти. Только торопись, охранитель. Время пошло. Тебе уже отплывать скоро. Ничего сейчас не спрашивай, в Указе, который я вскоре оглашу, все будет сказано. Да и в письме царском, чаю, также…
Когда Петр бывал трезвым, то буквы в документах, начертанных его рукой, беспорядочно «плясали» в разные стороны. В крепком же подпитии царский почерк становился косым и убористым. А вот будучи смертельно пьяным, государь неожиданно для всех превращался в искуснейшего каллиграфа.
«Судя по всему, Петр начинал писать это послание абсолютно трезвым, а заканчивал, уже пребывая в полноценном пьяном бреду», — отметил внутренний голос.
«Не ждал я от тебя, Алексашка, такого гадкого обмана! — писал царь. — От всех ждал, но чтоб от тебя… Мерзавец ты законченный! Пожалел для государя — жены своей… Что, убыло бы от нее? А скольких утех сладостных я был лишен — по твоей подлой милости? Никогда не прощу! Злыдень ты первейший… Да, еще, по поводу золотишка. Ха-ха-ха! Если этот Аль-Кашар не соврал, и ты послан к нам из Будущего, то для тебя это — дела пустячные…»
«Вот они — Властители! Нельзя им верить никогда! — от души возмутился внутренний голос. — Сколько раз тебе, братец, Петр клялся — в своей братской дружбе? Мол: „Я твой, Алексашка, вечный должник, век не забуду…“ И перед Санькой нашей неоднократно рассыпался — в благодарности бесконечной. А теперь вот — получите и распишитесь… Да, коротка ты, память царская! Хорошо еще, что казнить не надумал. С него сталось бы…»
— Ну, охранитель, все прочел? — вкрадчиво спросил Ромодановский. — Тогда пойдем к остальным, я зачитаю Указ государев…
К причалу тем временем уже подошли женщины, облаченные в совершенно невероятные праздничные платья, сверкая драгоценными каменьями своих многочисленных золотых украшений, а дети удивленно и восторженно разглядывали неподвижно замерших у кромки воды солдат Московского полка.
— Дядя Николай! — обратился Егор к Ухову-старшему. — Отведи-ка всех ребятишек в дом, пусть там поиграют. Займи их чем-нибудь интересным. Расскажи, что ли, сказку — про добрых и умных белых медведей…
Дождавшись, когда старик — в сопровождении нянек и денщиков — уведет детей, Егор попросил Ромодановского:
— Дозволь, Федор Юрьевич, сперва мне сказать несколько слов народу? Объясниться, так сказать…
— А что ж, и объяснись! — благодушно кивнул головой князь-кесарь. — Дозволяю!
Егор снял с головы треуголку, сорвал свой пышный ярко-оранжевый парик и выбросил его в ближайший кустарник, после чего заговорил — громко и четко:
— Повиниться я хочу, господа. Вина лежит на мне великая. Немногим более восьми лет назад я обманул государя нашего, Петра Алексеевича. Не захотел я, чтобы царь воспользовался своим правом «первой брачной ночи» в отношении невесты моей, Александры Ивановны, — внимательно взглянул на испуганную и слегка ошарашенную Саньку. — Вместе с известным вам доктором — Карлом Жабо — мы тогда обманным путем внушили государю, что ему смертельно опасно вступать в плотские отношения с русскими женщинами. Вот и вся моя вина, господа…
— Разве это вина? Да только так и надо было! — звонким голосом заявил юный Томас Лаудруп, невесть как умудрившийся избежать опеки старика Ухова, и тут же прикусил язык, получив от матери крепкий подзатыльник.
— Теперь понятно, почему Петр Алексеевич зимой 1995 года так безжалостно разогнал свой гарем, составленный из дворовых девок, — негромко пробормотал себе под нос Алешка Бровкин.
Ромодановский сделал два шага вперед, вытащил из-за широкого обшлага камзола сложенный вдвое лист толстой бумаги и непреклонно объявил:
— Все, поговорили и хватит! Теперь я говорить буду. Слушайте, голодранцы, Указ царский! Про «Великая Малыя и Белыя…» пропущу, пожалуй. Сразу перехожу к делу, итак: «За подлый обман учиненный — лишить Меньшикова Александра, сына Данилова, всех воинских званий и наград, отписать в казну государеву все его деревеньки, дома и вотчины. Обязать означенного вора Александра Меньшикова — вместе со всем семейством его — отбыть навсегда из России. На его личном фрегате „Александр“, не позднее двадцати часов после оглашения ему этого Указа. При дальнейшем появлении на берегах российских казнить всех Меньшиковых и их прямых потомков, не ведая жалости. С собой семейство злодеев Меньшиковых может взять золото, драгоценности, вещи и людишек — только из загородного василеостровского поместья…»
Ознакомительная версия.