— Расслабиться и получить удовольствие, — ввернул Павел.
— Или так, — поддакнул Гоша: — «Не знаю причин вашего спора, молодые люди, но ехать нужно!»
— Да нет же! Ах, вы не понимаете, а я не умею сказать! Это как перерождение, я будто бы обратился. Предопределение…
— Иди ты в такое-то место со своим предопределением! Слушай сказку, про нас же, ну! Жил-был мужик, может, Иван, может, Абрам, не знаю. Жил-поживал, как все, да только настигла его беда. Мор случился, оспа, соседи-то кой-как перемоглись, у одного Ивана поголовно семейство на погост переселилось. И старые и малые, и жена-красавица, и детки-крепыши. Один остался, как перст, а мужик еще совсем молодой, навроде, скажем, меня…
Михаил и Елена Евгеньевна сидели вдвоем чуть поодаль. Елена Евгеньевна сжимала его руку. На нее стали находить периоды странного оцепенения, когда голоса у костра уплывали, и только твердая ладонь Михаила держала ее, как якорь.
— Миша, — сказала она, не отрываясь от неведомой точки, — что вокруг? Что это, ты понимаешь? Почему? И где мы все?
— А тебе осталось, к чему возвращаться? — вопросом на вопрос ответил он. Что бы он мог ей сказать?
— Не знаю… Нет. Ты. Больше никого. Наверное, Зиновий прав, все как будто нарочно складывается так, чтобы отрубить все наши нити здесь. Как же бессердечны те, кто это сделал. Ну, взяли бы просто нас, то, что им надо, зачем же так?.. Но я вовсе не чувствую себя чужой, посторонней. Другая — да, быть может, но не чужая! Как же так, Мишенька? У меня ведь и впрямь остался только ты, но ведь и ты — ненадолго?
— А этот? — Михаил указал на Андрея Львовича, занявшего место против Павла и имевшего вид, будто он не просто слушает, а записывает самым тщательным образом, стенографирует в памяти каждое слово, жест, подробность.
Батя не просто вытащил Андрея Львовича и погнал с собой. Он, кажется, прилагал особые старания, чтобы Андрей Львович все время находился рядом, все видел и слышал. Особенно новые персонажи Андрея Львовича захватили. Чудеса вокруг его трогали даже меньше, чем проделки Гоши и забавы и речи Зиновия.
— …Живет Иван так, беду бедует, горе мыкает, но — женился заново, похуже, правда, взял, детишек настрогал, как положено, уж какие там получились, вдруг — бац! Наводнение! Речонка ихняя переплюйка несказанно из берегов разлилась, и все Иванове семейство, и все хозяйство, и всю скотину, и самый дом смыла. Остальным дворам урон нешибкий, а у Ивана — голь да пусть. Да…
— Дай мне что-нибудь выпить, — попросил он, — если после Гоши с Батей осталось.
При контузии пить совсем нельзя, но и терпеть больше он не в состоянии.
— У меня отчетливое ощущение, что все это уже было со мною, — сказала Елена Евгеньевна, передавая коньяк. — Да, я знаю, слышала от других, читала тысячу раз. Ложная память, «дежа вю», синдром «однажды виденного»… Этот лес, тьма, люди у костра. Этот поразительный свет из ниоткуда. Что же с нами всеми будет, Мишенька? Ты знаешь, я почти не боялась там, в подвале, а теперь боюсь. Что будет? Нам с тобой так много нужно сказать друг другу. Об этой далекой стране, где мы были вместе — или только будем? — о песне, нашей песне, да? Ведь у нас еще ничего толком не было… А знаешь, — сказала она, всхлипнув, — у меня там муж погиб, убили, вот…
Он стиснул ей ладошку в ответ. Не открывая глаз, попытался продолжить то, чем был занят, едва Павел объявил привал и стало необязательно заставлять себя идти.
Вновь он обращался к НЕЙ, вызывал огненные строки, и это было как биться в глухую стену. Ни буквы, ни картинки, ни звука.
— …В третий раз наш Иван поднялся. Хоть и года уж не те, и здоровьишко. Отрыл себе такую наполовину как бы землянку, бабешка какая-то колченогая с ним прижилась, глядь — там и робятенок-другой. Хозяйство — курей пара да коза лядащая, огородик… Но тут — во судьба-судьбина! — землетрясение! Сроду в том в дремучем, в нашем то есть, краю ни про какие трясения земли не слыхивали, а тут — на! Треш-ш-шына прошла а-глубоченная! И надо ж такому быть, всех мимо, а Ванькина земля, с козой, женой, ребятами золотушными и огородом — как есть ухнула. Ни вот столечко не осталось на проживание бедолаге, и сам-то уцелел потому — к соседу ходил дратвы занимать, седьмую заплату на обутку мастерить. Тут уж чего делать…
Павел встал, прошел, косолапя, к куче дров, выбрал полено потолще.
— Пашк! Что дурью мучаешься, которое тебе? — сказал Гоша нетерпеливо. — Чем кончилось-то?
Обломок в половину ствола поднял из костра ворох искр. Вернувшись, Павел сел по одну сторону с Андреем Львовичем, который слушал побасенку не так внимательно, как все предыдущее. Может быть, он ее знал.
— Делать, говорю, осталось только идти топиться. Взобрался мужичок на высокий по-над речкой утес, да ведь надо ж узнать, с чего житье-то поломано. Помолиться напоследок тоже. Вот и говорит он так: «За что караешь, Всемогущий! Жизнь моя у тебя на ладони. Грешил не больше других, работал по мере сил, а то и сверх того, добывал хлеб скудный в поте лица. На тебя не возроптал за беды мои, что посылал ты мне беспрестанно. А за что? Теперь вот утоплюсь с горя, какая моя в том вина? Ответь хоть напоследок, а?..» А тот ему сверху и говорит…
Он неторопливо положил кусок мяса на кусок хлеба и прожевал. Хитро прищурился.
— Отодвинул руцею облачко и так отвечает: «Что ж, Иван, твоя правда. Вижу я, хороший ты человек, и беды, тебе мною ниспосланные, в примете на иных грешников, несуразны. Но… — Павел сделал полагающуюся паузу. — Но не люблю я тебя!»
Все помолчали, переваривая.
— А! — сказал Гоша. — Точно, про нас. Га! Ну-ка, где там наши граммчики, остались еще? Молодец, Пашка, а то я тут, правду сказать, как в яме — ни черта достать не могу. Вот выйдем куда-нибудь, тогда уж…
— А мораль? — спросил вполоборота Андрей Львович. — Какую мы видим здесь мораль?
— Такую, что с большим, я извиняюсь, прибором положить мне на то, что кто-то там меня любит или не любит, если за ту любовь приходится расплачиваться собственной шкурой. Самая естественная идея, не правда ли? — Павел снова выдержал паузу. Он перестал придуриваться. — Но и ему с еще большим прибором положить на меня. Или пусть даже — ей, в смысле ЕЙ, Братка. Вот такая здесь мораль, мерсье-дамм, — закончил он в своем обычном тоне.
— Ну, ты разъяснил, — сказал Гоша.
— Но послушайте, это же то самое, о чем я вам и говорил! — воскликнул Зиновий Самуэлевич. Михаил судорожно вздохнул.
«Ну, что же ТЫ! — отчаянно думал он. — Где ТВОЙ обещанный лучик надежды? Или не заслужил я? Никто из них не уйдет отсюда, это я понимаю. Пусть. ТЕБЕ так угодно — пусть. Но оставь хотя бы ее. Ее одну. Оставь, какой бы ни быть ей после того, что ТЫ с нею, с ними всеми сотворишь. Прошу, оставь!»
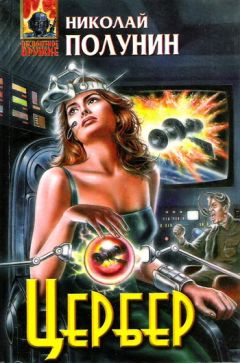
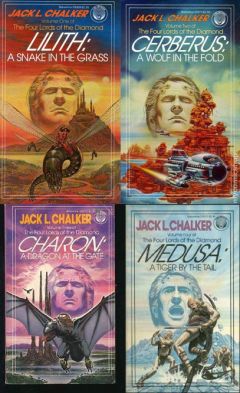
![Фабрис Колен - КОЛЕН Ф. По вашему желанию. Возмездие[]](https://cdn.my-library.info/books/75333/75333.jpg)


