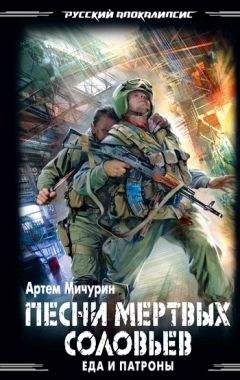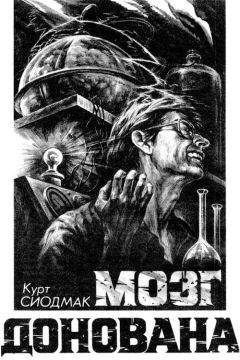Командировка в тот раз удалась. Мы успешно разминулись с патрулями и, оставив груз в трех разных точках, вернулись обратно. Данное событие решено было отметить. Ошивались дружки Фары обычно в кое-как обустроенном коллекторе, неподалеку от молокозавода. Туда мы и направились, предварительно сменяв пять косяков на литровую бутыль самогона и две рыбины, засушенных до состояния окаменелости.
– Ну, будем, – произнес тост Липкий и поднял кружку.
Этот весьма несимпатичный субъект являлся негласным лидером шоблы. Ему было уже пятнадцать, и на правах старшего он вел дела с Потерянными, чем очень гордился. Откровенный неудачник. Его одногодки уже ходили в боевиках, а этот ошивался с малолетками и ничего менять в своем убогом существовании не планировал. Видимо, боязнь оказаться среди сверстников последним была сильнее самолюбия, если оно вообще ему знакомо. По виду Липкий напоминал червя – долговязый, с узкими плечами и слоем жирка на дряблом мясе, он даже двигался волнообразно, а неизменно сальная кожа и жидкие, налипшие на одутловатую физиономию лохмы гармонично дополняли образ. Маленькие прищуренные глазки находились в постоянном движении, лихорадочно рыская по сторонам, словно их обладателю грозила смертельная опасность. Разговаривал Липкий тихо и отрывисто, из-за чего был частенько игнорируем, но не обижался, предпочитая, в таком случае, сделать вид, будто и вовсе молчал.
Жестяные кружки глухо стукнулись, порадовав тостующего тем фактом, что его на сей раз услышали, и горячие ручейки самогона потекли вниз по организмам.
– Надо бы у Петли надбавки попросить, – ни к кому конкретно не обращаясь, сказал Баба – единственный толковый парень, не считая Фары, в этой гоп-компании. Двенадцати лет от роду, невысокий, но крепкий, с цепкими серыми глазами и бритым под ноль, покрытым шрамами черепом. Совершенно не вяжущуюся с суровой наружностью кличку получил за любовь к балисонгам – ножам-бабочкам, коих имел две штуки и крайне редко выпускал из рук, крутя на все лады.
– Задарма башкой рискуем, – продолжил он, отвернув рыбине голову, и шумно втянул ноздрями ее аромат.
– Точно, – кивнул Фара, присоединившись к глумлению над рыбьей мумией. – План дешевеет, а доля как была, так и осталась.
– Серебром надо брать, – резюмировал Баба. – Задолбался я уже. Мало того, что крохи перепадают, так их еще и сбагрить хер найдешь кому. Один был покупатель путный – дед с четвертой линии, шахтер, – и тот подох на прошлой неделе. Это Дрыну хорошо, – кивнул Баба на высокого жилистого парня, идиотски хихикающего чуть поодаль, – он сам все скуривает. А мне деньги нужны.
– Зачем? – поинтересовался Липкий, разливая по второй.
– Ты сам-то понял, чего спросил? – Нож в руках у Бабы завертелся с повышенной скоростью, выдавая раздражение.
– Свалить, что ли, думаешь? – усмехнулся Фара.
– А может, и так.
– Куда?
– На север пойду. Вот скоплю на ствол, снарягу, и ходу отсюда.
– В Триэн?
– В Триэн, – повторил Дрын, тыча пальцем в Бабу, и зашелся истерическим хохотом.
– Хуй ли ржешь?! Ты там был?! Вот и заглохни!
Снова разыгралась «мигрень». Обычно алкоголь заглушал ее, но не в тот раз.
– Успокойся, – посоветовал я и взял кружку. – Предлагаю выпить за мечту. У всех есть мечта?
– Сейчас бы мяса навернуть.
– Заткнись, Дрын. Пожрать – это не мечта, это галимая физиология. А мечта… Она должна быть почти недостижимой.
– За такое я пить не буду. – Баба убрал протянутую руку и, не чокаясь, опрокинул самогон в горло, после чего налил еще. – Хватит уже недостижимого. Заколыхало все. Корячишься, как проклятый, а в результате – хер!
Балисонг в его левой ладони замелькал так быстро, что лезвие и половинки рукояти слились в одну фигуру, похожую на бабочку, а щелканье металла о металл приобрело темп пулеметной очереди. Свет керосиновой лампы отражался от ножа и пульсировал в такт звуку.
Голова разболелась еще сильнее. Скупо освещенный коллектор погрузился во тьму. Единственное, что различали глаза, – это бабочка и ее стальные, объятые огнем крылья, бьющиеся в безумном ритме.
Помню обрывки фраз, смех, далеко, будто сквозь паклю. А потом что-то коснулось моего плеча.
– Блядь!!! Какого?!
– Едрить вас! Да что же это?!
– О-ху-еть…
Из окропленной пульсирующими алыми точками темноты проступило лицо Бабы. Привычное, слегка пренебрежительное выражение сменилось абсолютно обескураженным. Он смотрел на меня округлившимися непонимающими глазами и открывал рот, словно выброшенная на берег рыба. А потом дернулся и захрипел. Красная слюна пошла пузырями на дрожащих губах, и для Бабы все кончилось. Глаза закатились, лицо сделалось неподвижным. Только алый ручеек продолжал расчерчивать щеку от уголка рта к мочке уха.
– Ты спятил?! – Ломающийся голос Фары сорвался на фальцет.
Влажное тепло растеклось по груди, правой руке и бедру. На языке возник привкус железа.
– Черт! Вот псих! – взвизгнул Липкий. – Я сваливаю!
– О-ху-еть, – повторил Дрын, не замечая, как догорающий косяк обжигает ему пальцы.
Я смотрел вслед шлепающему по лужам Липкому и постепенно возвращался в сознание, ощущал ладонью ребристую рукоять ножа, скользкие теплые комья вокруг руки, поднимающуюся снизу вонь.
– Что ты творишь?! – Фара подошел и нагнулся, собираясь, видимо, оттащить меня от уже испустившего дух Бабы, но в последний момент передумал и сделал шаг назад. – Слезь с него.
Я сел на корточки. Моя пропитанная кровью куртка с влажным чавканьем отклеилась от трупа. Не знаю, сколько ударов я нанес, должно быть, много. Из незамаранного красным у Бабы осталась только правая сторона лица.
Первое, что пришло в голову: «Где его балисонг?»
Бегло осмотрел себя – ниоткуда не торчит, хорошо.
«Бабочка» лежала рядом с телом, так и не приведенная в боевое положение, может, потому, что связки запястья были рассечены, а может, просто не успел вовремя среагировать.
Последний росчерк, который оставил мой нож, шел по мертвому телу Бабы от паха вверх и заканчивался в районе солнечного сплетения, там, где клинок разрубил не окостеневший еще мечевидный отросток и уперся в грудину, распоров по пути мочевой пузырь, кишечник, желудок и печень.
Чтобы вот так, словно плугом, пропахать человека, да к тому же в плотной одежде, нужно очень здорово постараться. Проще, если этот человек тяжел, а подогнувшиеся ноги вешают тушу на нож. Тогда дело сводится к одному – удержать его в руках, пока тело оседает, разваливаясь под собственным весом. Но тут случилось иначе. Этот удар был последним, когда Баба уже упал на спину. Как же я – одиннадцатилетний сопляк – сумел сделать такое?