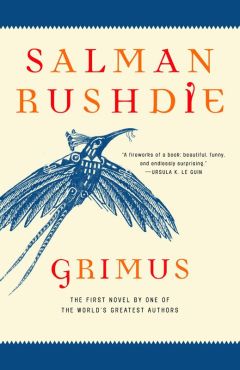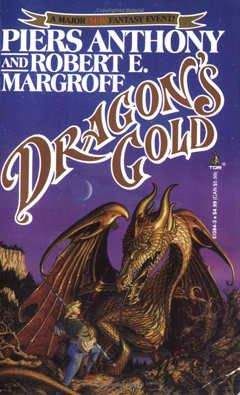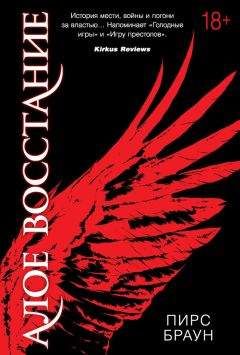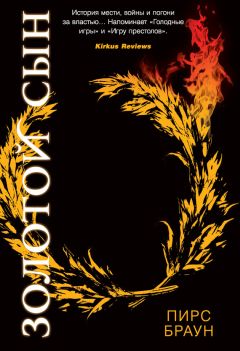развалина, и я чувствую, как что-то пробуждается у меня внутри. Тот шепот бесформенного страха, что приходит ко мне, когда я просыпаюсь после ночного кошмара, на мгновение забываю свои человеческие иллюзии и вижу мир таким, каков он на самом деле, – холодным. Темный ледяной ветер проносится через мое сердце, и я понимаю, что проиграл. Я оставил своего мальчика.
– Ты лжешь, – шепчет Севро.
Мы оба мечемся в клетке страха, каждый погружается во тьму, каждый не в силах осознать, не в силах поверить, что Повелитель Праха говорит правду. Это всего лишь злоба умирающего. Только так, и не иначе. Иного нельзя принять.
– Ты лжешь, – повторяет Севро. Лицо у него белое, как молоко.
Но старик не лжет. Слишком уж откровенное удовлетворение написано у него на лице.
– Это сделал ты? – шепчу я.
– Ах если бы! Это был один из ваших.
– Кто?
Повелитель Праха смотрит на меня, потом отворачивается к светлому морю, куда уже сбежал его дух.
– Лорн был прав, – произносит он хриплым шепотом. – Счет приносят в конце.
– Кто похитил моего сына?! – кричу я. – Кто?!
Севро с животным криком проносится мимо меня и впечатывает кулак в лицо Повелителя Праха. Он бьет снова и снова, пока его руки не покрываются кровью по запястья, а губы Повелителя Праха не превращаются в безобразное месиво. Я хватаю Севро и получаю удар в челюсть. Но я не разжимаю рук, повиснув на нем, пока он не начинает задыхаться. Севро отталкивает меня и разворачивается к Повелителю Праха с обнаженным клинком в руке.
– Он нужен нам живым! – кричу я. – Нам нужна информация!
Раздается негромкий хлопок. Я оглядываюсь на Повелителя Праха и вижу пену, пузырящуюся у него на губах. Он выплевывает на простыни вставной зуб. Аполлоний подбирает его и принюхивается.
– Яд.
– Кто похитил моего ребенка? – трясу я старика. – Говори!
Тот ухмыляется, обнажая гниющие десны.
– Он не скажет, – хмыкает Аполлоний.
– Это не значит, что он должен уйти легко, – бурчит Севро.
– Я согласен с полукровкой, – кивает Аполлоний.
Он хватает с одной из медицинских машин бутылку антибактериального спрея, которым медсестры, должно быть, обрабатывали оборудование. Потом берет одну из стоящих у кровати свечей.
– Нет!.. – Глаза Повелителя Праха расширяются от страха, речь его от яда сделалась невнятной.
– Аполлоний… – Я делаю шаг к нему, но Севро толкает меня обратно.
– Сожги этого урода! – презрительно ухмыляется он.
Аполлоний смотрит на меня:
– Жнец?
Скорбь моя бездонна.
Я убил Вульфгара. Разрушил свою семью. Потерял сына.
И все из-за этого гниющего работорговца.
– Жги.
– Нет! – Повелитель Праха пытается подняться с кровати. – Стойте!
– Прах к праху. – Аполлоний направляет бутылку на старика. – Пыль к пыли.
Он нажимает кнопку распыления. Антибактериальная жидкость с шипением покрывает Повелителя Праха химическим блеском. Потом Аполлоний швыряет свечу на кровать. Огонь встречается с парами спирта, и вспыхивает синее пламя.
Повелитель Праха кричит. Огонь бежит по сухой пленке кожи. Старик бьется в аду, словно извивающийся богомол. Его кожа сжимается, покрывается пузырями, вспухает и чернеет. Комнату наполняет едкий дым. Пластиковые трубки, присоединенные к внутренностям и рукам, натягиваются и тащат медицинские машины к кровати.
Аполлоний отстраняется от творящегося ужаса с радостным удовлетворением. Пламя пляшет в его глазах, отбрасывает безумно скачущие тени на высокие скулы. Я стою рядом с Севро и не чувствую ничего, кроме зияющего одиночества. Моя война, мой выбор отнял у меня семью и всех друзей.
Душевная боль терзает меня изнутри и жжет сильнее этого пламени. И когда Повелитель Праха испускает последний вздох, я отворачиваюсь от сцены убийства, такой же потерянный, как семнадцать лет назад, когда я шел по эшафоту, чувствуя петлю на шее. Я желал тогда лишь одного – быть отцом. И теперь потерял своего сына.
Праздная болтовня, заполняющая зал Правосудия в Сангрейве, столице ионийских золотых, стихает, когда в помещение входит Ромул Раа. Он идет среди почтительной тишины, облаченный в серое кимоно из грубой шерсти. По бокам от него шествуют верные сородичи: уродливый Марий, древняя Пандора, сонм несгибаемых преторов и седовласых ветеранов. Но среди них нет молодежи, моих ровесников, и это бросается в глаза. Блестящие курсанты, выросшие после восстания, почтительно собрались вокруг Серафины, ее пылеходцев и нескольких других заслуживающих внимания лидеров с Ганимеда, Каллисто, Европы. С ними рядом и те, кто прибыл с лун Сатурна и Урана. Все они расположились на каменных сиденьях арены.
Зал Правосудия – сам по себе темное сокровище. Все его поверхности облицованы блестящим черным камнем. Неф треугольный; южный, северный и западный приделы поднимаются вверх рядами, как на стадионе. Высокий потолок сужается, образуя пирамиду с железной верхушкой. В отделенном от остальной части зала восточном алтаре на возвышении из белого мрамора, смотрящем на неф, изогнутой линией сидят, скрестив ноги, двенадцать рыцарей-олимпийцев. На каждом длинный плащ, соответствующий его титулу. На Диомеде – серый, цвета бури. На Гелиосе – ослепительно-белый. За ними парит мраморная пирамида с золотым верхом. Справа от пирамиды в своем кресле из цельного ствола вяза восседает старая Справедливость. Слева в кресле из кости сидит юная Шанс, та самая, которая присутствовала на поединке. Одна помнит, вторая обещает.
После приветственного благословения и разъяснения прав Ромул и его люди рассаживаются в центре нефа на тонких подушках. Ромул сидит впереди, отдельно от остальных сорока. Гелиос Люкс, Аравийский Рыцарь из числа олимпийцев, смотрит из тени своего плаща, как властный сокол, длинношеий, лысый, но с длинными белыми усами. Концы их скреплены вместе двумя железными застежками. Диомед занимает место по правую руку от него. А по левую – смахивающая на жабу женщина с огромными глазами и значком Рыцаря Ярости.
– Ромул, – начинает Гелиос, и его голос подобен молоту и полностью лишен двуличия, – правитель доминиона окраины, глава дома Раа, ты предстал перед советом рыцарей-олимпийцев для беспристрастного слушания по обвинениям, выдвинутым в твой адрес Дидоной Раа.
Дидона сидит ниже совета – одна, вся в черном. Обвинять кого-либо перед советом – дело рискованное. Если обвинения Дидоны будут признаны ложными, ее ждет участь, которая в ином случае постигла бы осужденного. Закон суров.
– Обвинитель, огласи свои обвинения.
Дидона спокойно встает:
– Первое обвинение: грубая халатность во время войны.
Олимпийцы ждут продолжения, но она садится.
По толпе ползут шепотки. Дидона не выдвинула обвинения в измене – в точности как и сказала. Она сыграла на всех, как на струнах цитры. Как только ее муж вынужден будет уйти в отставку или согласиться на совместное правление, ее положение укрепится. Я слышу разговор двух