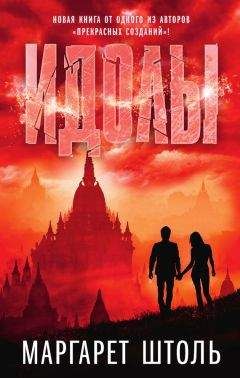– Не знаю. Может, выживанием?
Епископ улыбается мне:
– Мне кажется сейчас, что я знаю тебя с самого детства. Брат говорил о тебе так, словно ты была его дочерью. А потом, после того, что случилось в Хоуле… – Епископ пожимает плечами. – Ну, ты ведь знаешь, как солдаты болтливы. Так что историй можно услышать множество. И это совсем не то, о чем рассказывал брат.
Он говорит о моей силе. Вот о чем. Епископ не знал о моей силе.
Я не в состоянии думать. Человек, что сидит напротив меня, слишком сильно напоминает мне старого священника из миссии Ла Пурисима, которого я с детства любила как отца. И наверное, я догадалась обо всем сразу. Ну, какая-то часть меня. Еще до того, как Епископ сказал хоть слово, до того, как я очутилась на жестком деревянном стуле, на котором теперь сижу. Вот поэтому я так быстро ему поверила, сама не понимая, почему это так.
Флако. Ну конечно. У него было прозвище. Худышка. И семья. Брат. Родители.
Наверное, из-за того, что я не предполагала когда-нибудь снова увидеть падре, я и не узнала его брата, стоявшего прямо передо мной.
Не узнала и самого падре – в юности. А следовало бы.
Флако.
Я улыбаюсь и смотрю на Епископа, теперь уже действительно внимательно смотрю на него. И так отчетливо вижу лицо падре, как будто сижу перед ним.
И более того.
Все это. Это мгновение. Мне кажется, что все это уже было прежде, но это не так. Это не воспоминание, пока нет. Это все еще просто ощущение.
Я показываю на серебряные значки на отворотах Епископа. Те, что похожи на три буквы V.
– Что это?
– Знак различия грассов. Он говорит о том, что я могу командовать людьми и должен защищать жизни.
– Но форма. Очертания. Что они означают? Я никогда раньше такого не видела.
– Ты никогда не встречалась с офицерами грассов?
– Только с Фортисом.
Епископ старается сдержать улыбку.
– Да, конечно. Ладно. Полагаю, в определенном смысле это правда.
– Так что с формой?! – не желаю отвлекаться я.
Епископ откалывает значок со своего воротника и протягивает мне:
– Разве ты сама не видишь, Долория? Это птица.
Я верчу его в пальцах – гладкий, прохладный, изящный.
– Но я думала, что все птицы погибли. – Я хмурюсь. – Они упали с неба. Перед Тем Днем. Падре… Твой брат… Он так мне говорил. – Я с трудом произношу слова.
– Не все. Только те, что оказались поблизости от Икон. А эта птица – надежда. Эта птица означает веру в то, что они вернутся. Что однажды Земля снова будет принадлежать человечеству.
– И птицам, – добавляю я.
Епископ улыбается:
– Конечно, и коровам, и свиньям, включая всех детей Рамоны.
– Он любил эту глупую свинью, – говорю я, вытирая глаза тыльной стороной ладони.
– Конечно любил. Ее назвала Рамоной наша мать. Он тебе не рассказывал об этом?
Я тоже улыбаюсь.
А Епископ продолжает:
– Все это и представляет вот эта птица. Жизнь для всех нас. И то, за что стоит сражаться, и даже то, ради чего стоит умереть.
Он говорит точно так же, как его брат, этот Епископ. Они так похоже разговаривают.
– Ты действительно в это веришь?
Меня вдруг охватывает любопытство, может ли он и меня заставить верить во что-то. Как заставлял падре много лет подряд.
Они не могут этого сделать, говорю я себе. Больше не могут. Как бы мне самой этого ни хотелось.
– Надежда – существо с крыльями. Это строчка из одного старого стихотворения. Кажется, Эмили Дикинсон. – Епископ усмехается. – Возможно, она тоже была бунтаркой.
Я возвращаю ему значок.
– Ты не ответил на мой вопрос. – Мне неприятно это произносить, но ведь это правда.
– Ты должна надеяться. Ты должна верить, что все станет лучше, что есть причина продвигаться вперед.
– Но так ли это? Ты действительно так думаешь? Несмотря на Дом Лордов, и Посольства, и отсутствие энергии, несмотря на корабли, и Иконы, и стройки, и Безмолвные Города? – (Епископ кивает.) – После того, что они сделали с твоим братом? И с Фортисом?
Эти слова вылетают прежде, чем я успеваю поймать себя за язык. Епископ постукивает по бухгалтерской книге, лежащей на его столе.
Даже эта книга напоминает мне о падре. И даже потеря Фортиса напоминает мне о потере падре.
– Это не так-то просто, – наконец говорит Епископ с улыбкой. – Надежда – хрупкое существо. Но без надежды нет ничего. Надежда – это то, за что мы сражаемся.
– У меня нет времени на пустяки. Я просто стараюсь выжить, – отвечаю я, – как и все остальные.
Только они не сумели – Фортис, падре, мои родные…
– Зачем? – Епископ постукивает пальцами по столу.
– Что – зачем? – Я растеряна.
– Если у тебя нет надежды, зачем хлопотать? Какой в этом смысл? Зачем вообще пытаться выжить? – Епископ продолжает барабанить пальцами. И не желает смотреть на меня.
– Я должна.
Должна ли я?
– Почему?
– Потому что…
Я не знаю.
– Почему потому что?
– Потому что он этого хотел. – Я произношу это с запинкой и оттого, что это правда, внезапно застываю.
Вот оно. Вот в чем дело.
Так оно и всегда было.
Я удивлена, но стоит ли удивляться? Разговоры в тот день моего рождения. Та книга. Уроки…
Падре учил меня сражаться.
Епископ улыбается:
– Вот теперь ты говоришь дело. Может, это и есть борьба?
Мне жжет глаза. Мне наплевать, если выступят слезы. Я столько раз плакала перед этими теплыми карими глазами, пусть они и принадлежали кому-то другому.
– Я всего лишь девчонка из страны грассов. Я не солдат. Я не лидер. Я ничего не могу.
Мне становится легче просто потому, что я это произнесла, что-то вроде исповеди за кухонным столом. Епископ смотрит на меня так, будто я совсем еще ребенок. У него добрая улыбка, улыбка человека, который позволяет свинье ночью забираться в его постель, и воспоминание об этом так сильно, что у меня невольно перехватывает дыхание.
Как редки теперь такие улыбки…
Как много времени прошло с тех пор, как я видела такую улыбку.
– Разумеется, ты можешь, Долли. Ты сражаешься с того самого момента, как родилась на свет. Для тебя каждый день – борьба. И ты гораздо больше, чем просто солдат. То, как ты живешь, то, как ты чувствуешь… Ты живее многих из нас. Ты более человечна. Я бы отдал десяток лучших своих белтеров за одну Долорию де ла Круз. – Он протягивает руку через стол, чтобы сжать мою ладонь.
Я не хочу, чтобы наваждение исчезало. Для меня этот человек и есть падре. И пока я слушаю его, лицо Епископа тает, а через деревянный стол на меня смотрит лицо падре. Я чувствую себя так, словно опять сижу на деревянной скамье у длинного деревянного стола вместе с моим падре. И эта деревянная скамья и есть мой дом.
Вот так я и должна двигаться дальше, говорю я себе. С этим человеком. С Епископом, который вовсе не епископ, с падре, который совсем не падре, и с Фортисом, который не Фортис, но который делает всех их живыми для меня.
Он наполняет меня надеждой. Надеждой и легкостью.
Наверное, можно было бы сказать, что он моя серебряная птица, единственная, какая у меня есть, и единственная, какую я вообще видела.
Если не считать моих снов.
Я наклоняюсь на стуле вперед:
– Епископ, мне нужна твоя помощь.
– Все, что угодно.
– Дело не только во мне. – Я смотрю на него. – Это касается всех нас.
– Детей Икон?
– Всех пятерых, – киваю я.
– Пятерых?
И снова я начинаю свое повествование. Рассказываю Епископу историю моих снов. Говоря все это, я достаю из нагрудной сумки нефритовые фигурки. Но сначала моя рука натыкается на обломок Иконы, и на мгновение я замираю, ощущая его успокоительное и в то же время тревожащее тепло. И в тысячный раз я представляю, как выбрасываю его, но все равно этого не делаю. Не могу. Обломок каким-то образом словно стал частью меня самой, как метка на моем запястье. Я оставляю его в сумке.
Нефритовые фигурки – вот о чем я хочу рассказать.
И ни о чем больше. Пока – нет.
Когда я заканчиваю рассказ, Епископ берет со стола одну фигурку за другой и начинает составлять в аккуратную линию, вовсе не осознавая этого.
Не отводя глаз, он открывает ящик стола.
И я вижу в его руке резной кусочек слегка побитого зеленого камня. Еще одна фигурка. Часть того же самого комплекта, вырезанная той же самой рукой. Епископ ставит ее рядом с моими.
– Это не может быть совпадением. – Он смотрит на меня. – Куда больше похоже на некий знак.
Изумрудный Будда.
– Я в это не верю.
Шахматная фигурка из моего сна, та, которую мне дала маленькая нефритовая девочка.