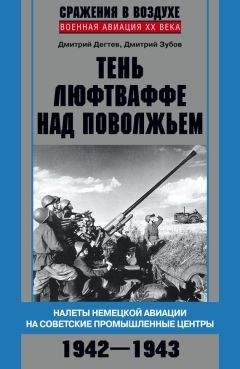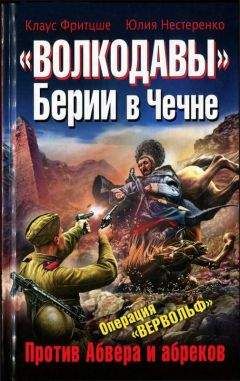Или ещё хуже, особенно когда на марше. Свалятся с неба, как снег на голову, «мессеры» или «фоккеры» и пойдут на бреющем. Закрутят карусель – все, пиши пропало! Тут уж точно никуда не скроешься: покрошат в капусту, изверги. И главное, налетают, твари, неожиданно. Обязательно наблюдатель проворонит их подлёт. Как так – не было, и вот тебе раз: уже все превращают в решето на своём пути? Исчадие ада! И потому истошный крик: «Воздух!!!» – мёртвому припарки.
Или как‑то было ещё такое в первые дни… Особенно почему‑то в память врезалось. Спешит им навстречу по дороге упряжка с полевой кухней. Пожилой возница нещадно дымит самокруткой. Старшина с ним рядом на козлах примостился. Все чин–чином – скоро бойцов своих горячим попотчуют в такую холодрыгу. Война войной, а обед святое. Если есть такая возможность и старшина расторопный, а не раззява.
…Сердце кровью после обливалось от увиденного, когда сволочи безнаказанно смылись за горизонтом.
Никто их снова не углядел: зашли, как всегда, со стороны солнца и… Пошло–поехало. М–мм! … Старшина вояка, видать, ещё тот, не оплошал. Его как ветром сдуло с козёл. Успел броситься в придорожную канаву. Напарнику его повезло меньше. От возницы только окровавленная ушанка и осталась. А лошадь столько на себя, бедолага, свинца приняла – не сосчитать. Вся искромсана пулями. Полевая кухня, обляпанная горя чим варевом вперемежку с жухлой травой, – как дуршлаг. Хоть звезды считай через неё. Ну, что ещё тогда запомнилось? Вкусно пахло от кухни той, аж в животе урчало. Гадство какое‑то, тут такое на его глазах творится, а есть хочется невмоготу.
Тьфу, ты? Растудыт, твою!.. Огляделся Никита и увидел, как и у других слюньки текут. Выходит, не у одного у него от голода в животе урчит. Но все равно перед товарищами стыдно.
Ах, да… Ещё майор срочно приказал нарубить мяса для собак! Не пропадать же добру…
Наглели фрицы, и все от безнаказанности. Вспомнил Никита наказ инструкторов по огневой подготовке, прошедших пекло под Смоленском и Ельней. В коротеньких перекурах на занятиях они доходчиво объясняли им, рвущимся на фронт, две главных солдатских заповеди: не так страшен сам фашист, как его авиация и миномёты.
Вот уж точно, от чего спасенья нет, особенно если нашими самолётами в небе и вовсе не пахнет. Тут шан сов выжить с гулькин нос. И печально шутили: «тут уж точно небо с овчинку покажется». А небо с овчинку практически было ежедневно. И вот однажды…
Шпарила их небольшая колонна из полуторок, пытаясь проскочить по разбитой вдрызг колее дороги опасный открытый участок. Невдалеке уже и спасительный лесок мелькает, где схорониться до сумерек можно, а то в лучах закатного солнца они, ей–богу, как тот голый в бане. Оставалось совсем немного как нашёл их «мессер». В голове лишь мелькнуло – ну вот и все, отвоевались. Пытаясь перекрыть оглушительный рёв двигателя, заходящего в пике истребителя, рокотал голос майора Ковалёва:
— К лесу, давай! К лесу! Собак крепче держать! Живее!..
Сбросил, сука, бомбу, но, видать, от куража своего арийского поторопился, и упала она невдалеке от дороги, не причинив особого вреда. А сейчас держись! Пошёл на бреющем, значит, вдарит по ним из пушек и пулемётов. Так оно и есть… От тентов на полуторках – сплошные лохмотья. Вроде бы все уцелели, уже к лесу подбегают с собаками. Все бы ничего, но замешкался один из проводников или зацепился маскхалатом за что‑то в кузове: немудрёно в такой горячке. Ну и сорвались его собаки и бежать не к лесу, где остальные укрылись, а прыг–прыг через канаву вдоль дороги, и в поле. Только поводки за ними, как змеи, мотаются. А подлюка устроил за ними настоящую охоту. Мечутся они по полю, поводки цепляются за все что ни попадя, мешают. «Мессеру» [7] только это на руку.
Проводник ревёт белугой, зовёт их к себе. Где там! Разве они услышат в грохоте, отбежали далеко. Насилу удержали тогда парня. Порывался вскочить и бежать на выручку своим любимцам. Всем миром навалились, а иначе – быть ещё одной беде.
Вот потому‑то сбитых немецких лётчиков – хоть и редко такое случалось – в плен не брали, особенно в первые годы войны, несмотря на все строжайшие, у грожающие карами приказы высших командиров. Смерть лютую и мучительную принимали. А если и приземлится на парашюте на нейтралке, то и тогда охотников много найдётся, несмотря на пулемёты фрицевские и беспощадный миномётный обстрел. Тут главное быстрей, чем фрицы, к нему ползком как можно ближе подобраться. Не станут же они по своему стрелять. Ну а уж если немец на нашей территории сел – все, пиз…ц ему! Порвут на куски.
Знал Никита, уже потом, когда попал после госпиталя в СМЕРШ, что в ротах и батальонах практически все офицеры смотрели на это сквозь пальцы. Не поощряли своих бойцов, но и запрещать не запрещали.
Сатанинские дела они творили безнаказанно, потому и смерть их ждала, когда попадали в руки русской пехоте, самая страшная и мучительная. Накуражился над нашей бедой, фашистская курва, получай своё! Жутко было смотреть на обезображенный труп…
Знали, видать, об этом немецкие лётчики, и если не ранен был и не контуже н, то завидев «русских Иванов», пытался стреляться. Лучше так, чем…
Вот такая война, без прикрас и глянца.
Что ещё запомнилось Никите в первые дни пребывания на фронте? А запомнились и врезались в память на всю оставшуюся жизнь в те тревожные дни поздней осени сорок первого полные печали и скорби глаза женщин и стариков, застывших у обочин бесконечных просёлочных дорог, осенявших их отряд крёстным знамением и шептавших им вслед извечное, как и принято на Руси в трагические дни испытаний, – спаси и сохрани вас, Господи, какие же все молоденькие… Но ни тени упрёка и обиды на них, а лишь по–бабьи жалостно «молоденькие‑то все какие…»
Но, пожалуй, больше всего поражали Никиту не по–детски взрослые и всепонимающие глаза малышей. Будто уже вся жизнь, бесконечно долгая, за плечами! Невыплаканная беда кричала в этих глазёнках.
Ковалёв обычно после таких встреч, играя желваками, говорил хриплым от волнения го лосом: «Смотрите и запоминайте… За них воюем… За эту Россию. Вот за этих баб и за эти просёлки».
А тётки и молодухи, все в одинаковых чёрных платках, смахивая набежавшие слезы грязными и разбитыми в непосильной работе руками, продолжали шептать молитву и крестить спешно уходящий за поворот отряд – спаси и сохрани…
Как‑то от обочины шагнул им навстречу дед, седой, как лунь, сгорбленный тяжестью лет, и, безошибочно определив в Ковалёве старшего, сказал:
— Не бросайте нас, сынки, на растерзание этим извергам. Лучше с собой заберите, коли отступать будете. А нет, так порешите всех здесь на месте…