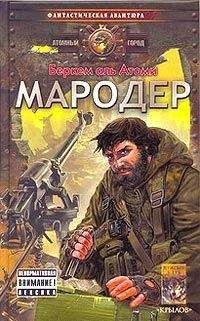Ознакомительная версия.
Но сейчас все только начинается, и единственный способ не проиграть — не участвовать. Будучи необразованным любителем пива и футбола, Ахметзянов почему-то чувствовал принципы популяционной динамики и потому определил стратегию своей небольшой ячейки общества как «чтоб на улицу даже думать забыла, а я за водой — через два на третий, да и то — только ночью; без помыться пока обойдемся».
Надо сказать, что его стратегия увенчалась успехом — самые чокнутые осенние месяцы, когда молодые и не очень тридцатовские мужики, словно помешавшись, испуганно херачили друг друга днем и ночью — Ахметзяновы сидели, не подавая признаков жизни. Это был самый трудный период новой эры — и трудность его заключалась отнюдь не в необходимости укладываться в жесточайшие нормы по дровам и воде, трудно было не чокнуться от страха — стрельба не утихала ни днем, ни ночью. Как-то вечером прямо под их окном долго, больше часа, кого-то били и резали несколько пьяных уродов. Непонятно кого, по надрывному, булькающему визгу жертвы даже пол не определялся. Добить помешал дождь, уроды свалили — а бедолага еще с полчаса размеренно икал в агонии, да громко так — от этого икания просто мороз шел по коже, и Ахметзяновы в тот вечер подняли немало досрочной седины. Жена, с расширившимися зрачками и нехорошей такой, больной интонацией в голосе ходила за Ахметзяновым и шепотом кричала на него, требуя или затащить умирающего в подъезд, или добить, или «…ну хоть что-нибудь сделать!». Чувствовалось, что ее разум довольно близко подошел к черте, за которой просматривались совсем плохие перспективы; в косматом существе с остановившимся взглядом, бродящем по холодному темному дому по пятам за мужем, и монотонно шипящем что-то безумное, жена почти не узнавалась. Ее пришлось слегка побить, добиваясь слез и реакций, выталкивая ее разум из этой тьмы, а потом, когда она наконец заплакала и начала закрываться от пощечин, Ахмет уложил ее и долго гладил как ребенка по голове, тихо бормоча в ухо разную чушь про отпуск, и пальмы, и рыжую соседскую собаку, с которой она дружила в той жизни. Утром, выглянув посмотреть: кому же так нехорошо пришлось умирать, Ахметзянов не нашел никаких следов — труп куда-то делся, а кровь смыло дождем.
Другой, врезавшийся в память эпизод той осени, когда несколько отморозков пришли искать парня из соседнего дома, она перенесла уже гораздо легче, и даже слегка озадачила Ахметзянова полным отсутствием видимой реакции. Через дом жил Юрик, толстый спокойный слесарь с химзавода. С Ахметзяновым был шапочно знаком, с женой здоровались через раз. Ездил на любовно восстановленной 21-ой «Волге», преимущественно в сад, возил какие-то длинные деревянные брусья на крыше — видимо, что-то строил помаленьку; особо не бухал, короче — обычный спокойный парень. Жил холостяком, с матерью и сестрой лет восемнадцати или около этого. В общем, Ахметзянов и не подозревал, какой скрытый мачо иногда салютует ему со скамеечки бутылкой пива. Дело в том, что едва ли не с первого дня Юрик преобразился — даже, казалось, втянулись вечно розовые щеки, делавшие его похожим на двухметрового пупса — новая жизнь пришлась ему по душе. Ахмет несколько раз наблюдал через щели в оконных загородках, как он со своими корешками выходил со двора — явно направляясь куда-то за добычей. Все, как один, здоровые лбы, с оружием, они явно ничего не боялись, и по их поведению было понятно — не жильцы. …Месяца не протянут, — подумалось тогда Ахметзянову, однако все произошло куда быстрее. Через неделю их уже не было видно. Видимо, эти румяные слесаря зацепились где-то с парнями похищнее и легли, а Юрику удалось свалить. Ему хватило ума прятаться не дома, но это, увы, не помогло — в маленькой Тридцатке каждый знаком с каждым максимум через двух человек, и очень скоро за ним пришли. Человек шесть-семь, с такими же охотничьими ружьями, но помоложе Юрика. Выкинули со второго этажа его мать и сестру, спустились — те обе были живы, даже пытались встать, и снесли обоим головы из ружей.
Еще тот период запомнился первым в старом городе[30] большим пожаром, незадолго до Нового Года. Сгорел дом неподалеку, не подъезд-другой, как это уже случалось, а весь дом полностью. Кто там жил, говорили потом соседи, выскочили все — но лучше б не выскакивали, минутку бы помучились, и все, а так большинство оставшихся без ничего погорельцев несколько дней растягивали агонию, пытаясь обустроиться в пустом подъезде дома напротив. Может, кто и зацепился бы, но им здорово не повезло — как-то ночью ударил нешуточный мороз, аж деревья трещали; погорельцы сгрудились в одной комнате, чтоб дров хватило — и угорели, огонь все-таки забрал свое. Нет, от чего суждено — от того и загнешься, не соскочить.
Не считая походов за водой, Ахмет вылезал тогда на улицу всего один раз. Этот раз надолго запомнился всем жителям старого города, и если б авторство инцидента стало достоянием общественности, то наше повествование было бы куда короче.
Недели за три до снега стрельба на улицах резко пошла на убыль. Ахмет решил, что в среде сторонников активной гражданской позиции произошла некая структурная перемена, выделившая из их рядов настоящих активистов ножа и топора, занявших подобающую им нишу согласно демократической процедуре, известной как «выборы крысиного волка».[31] Он не ошибался, с той поправкой, что территория Тридцатки оказалась достаточной аж для трех отмороженных коллективов, и, когда лег снег, старший одного из них, Жирный, решил оказать Ахмету честь и стать его соседом. Жирному приглянулось здание ДК химзавода.
Около полудня со стороны улицы Блюхера, проходящей аккурат перед ДК, послышались странные звуки. Скрип снега, звяканье металла, тихие, зажатые вопли боли, раскатистый гогот, веселая матерщина — на улицах Тридцатки уже давно никто так беззаботно не шумел. Ахмет метнулся за монокуляром и приник к щелке в оконном щите. На площадь перед ДК выдвигалась весьма занятная процессия — больше дюжины разномастных легковых прицепов, влекомых десятком человек каждый. На прицепах громоздились желтоватые штабельки печного кирпича; несколько прицепов везли мешки с цементом. Впереди и по бокам вереницы тяжко переваливающихся прицепов по снежной целине бодро шагали нарядные парни с калашниковыми на груди. …Хы, бля. Ты хотел, кажется, узнать — че же там за «пидоры с калашами»? А вот и они. Узнал? Рад? — Ахметзянова аж скрючило от бессильной злобы и страха. — Перебазироваться в сжатые сроки не-ре-аль-но. Щас эти бляди усядутся в ДК, и пиздец!..[32] На обдумывание не ушло и секунды — пока Ахметзянов исходил холодным потом смертельного ужаса, Ахмет уже прикидывал, куда бежать за ингредиентами и во что забивать. Не отвечая на вопросы всполошившейся жены, быстро собрался и вышел, пообещав «скоро быть», но проболтался до сумерек, зато притащил детские санки, на которых громоздились какие-то мешки с румяными овощами на боках и здоровенная жестяная банка, замотанная в несколько слоев полиэтилена. Сделав последнюю ходку, Ахметзянов завалил мешками всю прихожую и неслабо вымотался, но выглядел необычно веселым и деятельным.
Ознакомительная версия.