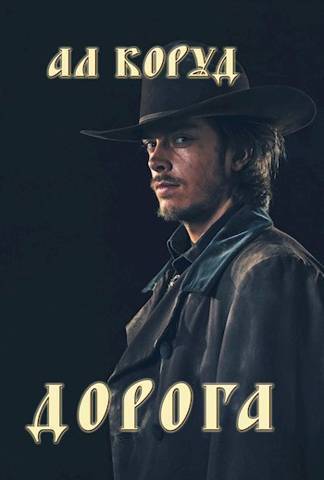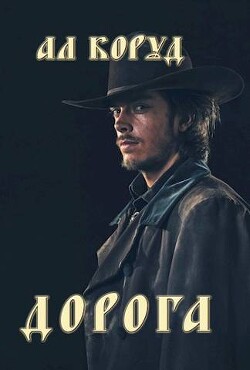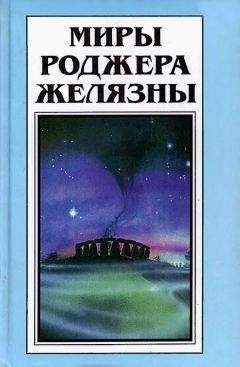в Солт-Лейк-Сити. Очень немногие профессионалы решились бы на это, тем более тогда.
Черт Тэннер улыбнулся, что-то припоминая.
— …А на своей единственной за все время работе, не идущей вразрез с законом, только вы ухитрялись без потерь совершать почтовые рейсы в Альбукерке. С тех пор как вас уволили, таких нашлось не много.
— Не моя вина.
— И на маршруте Калифорния — Сиэтл вы были лучшим, — продолжал Дентон, — как утверждает ваш куратор. Я вот что пытаюсь объяснить: из всех, кого мы могли бы найти, у вас самые высокие шансы добраться до места. Вот почему мы проявили к вам снисхождение — но медлить больше нельзя. Решайте прямо сейчас, да или нет, и, если да, вам предстоит выехать в течение часа.
Тэннер, подняв скованные руки, указал на окно.
— В такую хрень?
— Машины выдержат бурю, — ответил Дентон.
— Дядя, ты спятил.
— Пока мы тут болтаем, люди гибнут, — напомнил Дентон.
— Десятком больше, десятком меньше — без разницы. Нельзя подождать до завтра?
— Нет! Человек пожертвовал собой, чтобы нас известить! И континент необходимо пересечь как можно быстрее, не откладывая, иначе поездка потеряет смысл! Буря, не 6уря — машины отправляются немедленно! Перед лицом постигшей Бостон беды ваше мнение — пустой звук! Все, что мне требуется от вас, Черт, — одно-единственное слово. Так что же?
— Пожрать бы. Я не…
— В машине есть еда. Итак, ваш ответ?..
Тэннер уставился в темное окно.
— Ладно, — буркнул он. — Будь по-вашему, я прокачусь по Проклятой Дороге, вот только никуда не поеду без бумажки, где будет кое-что написано.
— Она здесь.
Дентон выдвинул ящик, достал плотный жесткий конверт и извлек оттуда лист бумаги с большой государственной печатью Калифорнии. Потом встал, обошел вокруг стола и протянул бумагу Тэннеру.
Несколько минут Черт внимательно изучал документ.
— Здесь написано, что если я доберусь до Бостона, то получу «полную амнистию в связи с любыми противоправными действиями, когда-либо совершенными на территории Калифорнийской державы»… — заметил он.
— Верно.
— А если вы еще не все знаете? Вдруг кто-нибудь стукнет на меня потом?
— Там ведь сказано, Черт, — «в связи с любыми противоправными действиями».
— Ладно, толстый, уговорил. Снимай с меня браслеты и показывай тачку.
Дентон вновь уселся по другую сторону стола.
— Позвольте довести до вашего сведения еще кое-что, Черт, — сказал он. — На случай, если где-нибудь по пути вам взбредет в голову тихо исчезнуть, другие водители получили приказ. Они моментально откроют огонь и оставят от вас лишь горстку золы. Картина ясна?
— Угу, — хмыкнул Черт. — Полагаю, я должен оказать им такую же услугу?
— Правильно.
— Неплохо. А может получиться еще и забавно.
— Я знал, что вам это придется по вкусу.
— Теперь расцепите-ка меня, и я возьмусь за дело.
— Не раньше, чем я выскажу все, что о вас думаю, — отрезал Дентон.
— Ладно, если не жаль времени костерить меня, пока гибнут люди…
— Заткнитесь! Вам плевать на них, и вы это знаете! Я хочу сказать, что еще не встречал более низкого, подлого, достойного всяческого порицания двуногого. Вы убивали мужчин и насиловали женщин, а как-то раз просто для потехи выдавили человеку глаза. Дважды вас судили за распространение наркотиков и трижды — за сутенерство. Вы пьяница и дегенерат и, по-моему, сроду не мылись. Вы со своими громилами терроризировали порядочных людей, когда после войны те пытались заново наладить жизнь. Вы грабили их, оскорбляли, глумились и под угрозой насилия отнимали деньги и предметы первой необходимости. Лучше б вы вместе с прочими погибли во время Большой Облавы. Вас можно назвать человеком исключительно в биологическом смысле. Где-то внутри, там, где у других людей есть нечто, позволяющее им жить вместе, сообществом, и поддерживать добрососедские отношения, у вас — большое омертвелое пятно. Единственное ваше достоинство (если это можно так назвать) состоит в том, что рефлексы у вас чуть быстрее, мускулы чуть крепче, глаз чуть острее, чем у нас, и, усевшись за баранку, вы способны проехать где угодно. Потому-то Калифорнийская держава и готова простить вашу бесчеловечность в том случае, если вы употребите свое единственное умение не во зло, а во благо. Я это одобрить не могу. Не желаю зависеть от вас — не тот вы субъект. Я бы с огромным удовольствием сделал так, чтобы вы сгинули в этом рейсе, и, очень рассчитывая, что кто-нибудь прорвется, надеюсь, это будет кто-то другой. Мне отвратительно ваше гнусное молодечество… Ну-с, ладно, «вольную» вы получили. Машина готова. Идемте.
Дентон встал. В нем было не более пяти футов восьми дюймов росту, и Тэннер, тоже поднявшись, глядел сверху вниз.
— А прорвусь-то я, — осклабился он. — Тот чувак из Бостона, не успев доехать до вас, дал дуба, а я пригоню в Бостон живой. Меня заносило аж до Миссис Хиппи.
— Вы лжете!
— Ни хрена! И если вы когда-нибудь разнюхаете, что я не соврал, то вспомните: у меня в кармане цидулка про «любые противоправные действия» и все такое. Туго мне тогда пришлось, хоть и пофартило. Но я побывал у самой Миссис Хиппи, а никто из твоих знакомцев такого о себе не скажет. В общем, по моим прикидкам, это, почитай, полдороги, а коли я забирался в такую даль, то и другую половину осилю.
Они направились к двери.
— Язык не поворачивается для добрых пожеланий, тем более — от души, — вздохнул Дентон, — и все-таки — удачи. Как бы то ни было, я пекусь не о вас.
— Ясный хрен.
Дентон открыл дверь и тотчас распорядился:
— Снимите с Тэннера наручники. Он едет.
Полицейский с пистолетом передал оружие тому, кто угощал Черта куревом, и зашарил по карманам в поисках ключа. Наконец он отомкнул браслеты и, отступив от Тэннера, подвесил наручники к ремню.
— Я с вами, — объявил Дентон. — Гараж внизу.
Они вышли из приемной. Миссис Фиск достала из сумочки четки — розарий [1] и склонила голову. Она молилась о Бостоне, о душе его почившего посланца и даже за Черта Тэннера замолвила словечко.
* * *
Звонил колокол. Его монотонным, безжалостным, неумолчным голосом полнилась вся площадь. В отдалении били другие колокола, и этот хоровой плач рождал адскую симфонию, звучавшую, казалось, с начала времен.
Франклин Харбершир, президент Бостона, отпил глоток холодного кофе и раскурил потухшую сигару. Уже в шестой раз он взял сводку потерь, перечитал последние цифры и опять бросил бумагу на стол.
Письменный стол президента усеивали бумаги, усеянные цифрами, усеянными пеплом, — и все это не имело никакого смысла.
Семьдесят шесть часов, проведенных без сна, давали о себе знать: любые данные представали дичайшим бредом, и особенно — попытки подсчитать уровень смертности.
Харбершир откинулся на спинку кожаного кресла, зажмурился и снова