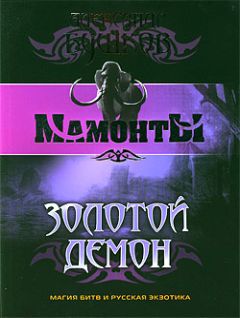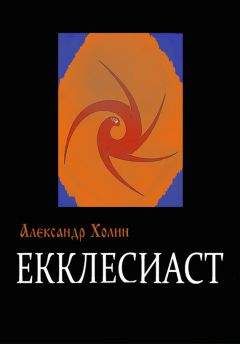В сердце то вспыхивала надежда на непонятные ему самому, но радостные перемены, которые непременно случатся после Пронского, то усугублялась злая тоска. Когда он вернулся в возок, проснувшаяся Лиза просто-напросто не стала с ним разговаривать: сначала неискусно притворялась спящей, потом сидела, отвернувшись к стене, всхлипывая, с лицом печальным и безнадежным. Сразу стало ясно, что ночью снова что-то происходило абсолютно нерадостное, о чем, пожалуй, лучше и не знать, чтобы не пасть духом окончательно. Она его ни в чем не упрекала, но от этого не легче…
Скрипел снег под полозьями возков, светило солнышко, небосклон был безмятежно чист. Пришло время, когда и он стал ощущать запах дыма из труб, а там и расслышал приятнейшие звуки, свидетельствовавшие о близком жилье: беспорядочный лай собак, мычание коров, звяканье ведер, еще какие-то стуки и бряканье.
Потом раздались резкие, частые, гулкие удары. Он не сразу сообразил, что это такое, но быстро догадался: опять-таки привычный был звук, сопровождавший пожары или другие бедствия.
На церковной колокольне били в набат.
Впереди, справа, вставали над снежной равниной многочисленные дымки деревенских изб — бледно-серые, вертикально тянувшиеся к небу при полном безветрии. Показались крыши, заплоты обширных огородов, покрытых сейчас глубоким снегом. От тракта сворачивала направо широкая наезженная дорога, ведущая прямехонько в село.
Послышался резкий окрик ямщика головного возка, и поручик видел, как он привстал на облучке, натянул обеими руками вожжи, что было предельно странно, когда до желанной цели оставалась в прямом смысле пара шагов… Остановился второй возок, за ним и третий, и следующие, выскочил Мохов, рядом с лошадьми своей упряжки, глядя вперед, качая головой…
Поперек дороги, перегораживая ее полностью, стояли люди — не прямой солдатской шеренгой, а нестройной толпой плечом к плечу, человек не менее пятидесяти. Они молчали, почти не шевелились, и у каждого было ружье. Сзади, не приближаясь особенно, во всю ширину улицы стояли еще люди: бабы с ребятишками, старики. Казалось, что здесь собрались все, обитавшие в деревне, насчитывавшей, как слышал поручик, дворов двести…
Церковный колокол ударил еще несколько раз и умолк.
— Интересная картина… — произнес рядом Самолетов. — Вон видите, поручик? Справа, сразу за вооруженными?
Поручик присмотрелся. Там, в некотором отдалении от зрителей помещался высокий старик в распахнутой дохе и волчьей шапке, с ухоженной седой бородой. Высокий, осанистый, он держался прямо и даже гордо, положив ладони на верхушку толстой сучковатой палки, статью прямо-таки напоминавший гвардейца.
— Это и есть…
— Вот именно, — сказал Самолетов, — Елизар Корнеич… Много знает, ох, много… Вопреки материализму и прогрессу.
Поручик, урожденный сибиряк, прекрасно знал, о каких людях принято так выражаться. Слова «колдун» в Сибири откровенно не любят, предпочитая говорить о людях особенных по-другому: «он знает»…
— Что-то он, волк матерый, высмотрел, — сказал Самолетов угрюмо. — Иначе этих декораций не объяснить…
Мохов сделал шаг вперед, еще… На третьем из толпы послышался громкий, даже словно бы равнодушный голос:
— Стой, Ефим Егорыч! Стрелять начнем!
И добрая половина ружей взметнулась, взяв обоз на прицел.
Мохов остановился… Стараясь говорить спокойно, не показывать удивления, произнес:
— Православные, вы что, белены объелись? Или меня не узнали? Аверьян Лукич, ты где? Что за озорство? Мне бы лошадей поменять, как обычно, и провизии…
На правом фланге вооруженные чуточку раздвинулись. Показался невысокий, седой человек, одетый чуточку побогаче прочих. Разведя руками, отозвался с неприкрытым сожалением:
— Ты уж извини, Ефим Егорыч… Я тут ни при чем. Общество постановило вас в село не пускать. Так что езжай своей дорогой и не серчай. А только делать вам у нас нечего.
— Лукич…
— Хватит, Ефим Егорыч. Толковать нам не о чем. Ты человек в годах, поживший, свет повидавший, сам понимаешь что к чему. Сам знаешь, что в обозе волокешь. Вот и вези это самое куда подальше, а нас не цепляй… Лошади у тебя с ног не валятся, корма и провизии, как справный хозяин, наверняка чуточку и приберег на крайний случай. До Челябинска всего ничего, четыре перехода, а там тебе и власть, и жандармерия, и архиереи, и кого только нет… Вот пусть они с твоим чертом и разбираются, как знают. А нам такое как-то не с руки, в хозяйстве ни за что не надобно… Вот тебе и весь сказ. Общество приговорило… Так что трогайтесь с Богом, а нас оставьте в покое. Если что, народ стрелять примется…
Он снова развел руками, поклонился и, раздвинув вооруженных, скрылся меж ними.
Со своего места поручик мог рассмотреть лица — трезвые, упрямые, решительные, ожесточенные. Никто не суетился, все стояли степенно, сжимая ружья с самым непреклонным видом. Такие костьми лягут, да не пропустят…
Решительным шагом мимо Мохова и передней упряжки прошел жандармский ротмистр Косаргин — едва ли не парадным шагом, придерживая саблю, четко отмахивая правой. Он сбросил шубу, чтобы виден был мундир.
Успел сделать два шага — и раздался выстрел. Аршинах в пяти перед ротмистром взлетел снежок — судя по его виду, там была не пуля, а картечный заряд. И сразу же закричали несколько голосов:
— Стой, ваше благородие!
— Больше впустую не стреляем!
— Стой где стоишь!
Ротмистр стоял.
— Мужики! — крикнул он звучным, хорошо поставленным голосом человека, которому уже приходилось вот так противостоять мятежным толпам. — Вы что озорничать взялись? Я офицер отдельного корпуса жандармов…
— А хоть бы и фельдмаршал! — отрезал кто-то. — Дороги нет!
— Бунтовать? — рявкнул ротмистр.
— Не передергивайте, ваше благородие! Не бунтовать, а защищаться от вашего, то есть черта…
— Это другой коленкор! — поддержал кто-то. — Православным людям этакая нечисть ни к чему!
— Да какая нечисть? — крикнул ротмистр. — Какая нечисть? Мухоморов объелись?
Послышался веселый дерзкий голос:
— А ты перекрестись, что нет у тебя черта!
— Вот-вот! Дай в голос обществу честное офицерское слово, что нет в обозе никакого черта! Коли уж ты офицер, слово у тебя должно быть честное и благородное! Ну?
Ротмистр молчал.
— От то-то! — припечатал в тишине чей-то невозмутимый голос. — Не хватает у него подлости через честное благородное слово переступить…
— Езжайте отсюда живенько!
— Православные! — выкрикнул ротмистр. — Подзабыли уголовное уложение в глуши? Вооруженное противостояние чину жандармерии, открытый бунт… Я ведь с казачьей сотней вернусь. Не вынуждайте! Давайте добром договоримся…