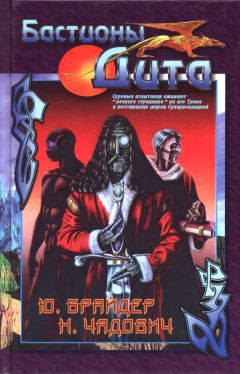На втором курсе Грошева уже не били и даже не посылали после полуночи на поиски сигарет. На третьем он превратился в одну из самых авторитетных особ института, а на четвертом организовал студенческий театр миниатюр.
С чем ему по-прежнему не везло, так это с девушками. Сказывались пуританское воспитание и всякие психологические (вернее даже, психопатические) комплексы, нажитые не без посредства художественной литературы. Тут уж и Синяков ничем не мог помочь приятелю.
Поскольку Грошев перед особами противоположного пола робел, как рядовая шашка перед дамкой, те сами находили способ одарить его своей благосклонностью. Понятное дело, в основном это были обойденные мужским вниманием, зато волевые и бесстыжие дурнушки. Вынужденное целомудрие угнетало их не меньше, чем прыщи и перхоть, так свойственные юному возрасту.
Однажды, поздним вечером вернувшись в общежитие с чересчур затянувшейся тренировки, Синяков был поражен разгромом, царившим в комнате, которую он делил с Грошевым. Но это был не тот разгром, что остается после шмона или драки, а разгром непристойный, порожденный необузданным развратом, при котором блудодеи и блудницы не видят разницы между кроватью, столом или подоконником, а интимные предметы женского туалета могут оказаться где угодно, хоть на абажуре.
Сам Грошев в данный момент полулежал на растерзанной постели. На коленях он держал существо, которое Синяков вначале принял за мужика без штанов – очень уж мускулисты, кривы и волосаты были его ноги. Лицо гостя (или гостьи) рассмотреть было невозможно – оно находилось где-то у Грошева под мышкой.
Однополая любовь в те времена считалась явлением не менее позорным, чем измена родине, и Синяков уже собирался бесцеремонно разогнать эту парочку, как благопристойные граждане разгоняют бесстыжие собачьи свадьбы или шумные кошачьи коитусы, но Грошев опередил его.
– Знакомься! – пьяно ухмыляясь, молвил он. – Мальвина, чемпионка города по кроссу.
– Федя, – машинально ответил Синяков. – Инструктор по онанизму.
Чемпионка чинно встала, одернула коротенькую по моде юбчонку и протянула Синякову мозолистую ладонь, на тыльной стороне которой виднелась малоразборчивая татуировка.
Кроме этой самой легкомысленной юбчонки, других неоспоримых признаков женского пола Синяков у Мальвины не заметил. Подстрижена она была чуть ли не под «ноль», своим грубым и плоским лицом напоминала скифскую каменную бабу, а разговаривала сиплым, прокуренным тенорком. Зубы у возлюбленной Грошева были как у боксера, уже достаточно часто выступающего на ринге, но еще не достигшего статуса, при котором услуги стоматолога оплачивает собственная федерация.
Как выяснилось впоследствии, Мальвина была не только способной бегуньей на средние и длинные дистанции, но и немалым авторитетом в блатном мире. Ее многочисленные братья – родные, единокровные и единоутробные – на воле появлялись только эпизодически, однако успевали поставить на рога хоть весь район, хоть весь город. Мальвина еще под стол пешком ходила, а обидеть ее мог разве что самоубийца.
Симфония их любви, в которой Мальвина, естественно, играла первую скрипку, была бурной и непродолжительной. Попользовавшись Грошевым в свое удовольствие (если только женщины подобной половой конституции способны получать удовольствие от плотского общения с мужчинами), коварная чемпионка бросила его ради другого, столь же юного и наивного мальчика.
Страдал Грошев недолго, а утешение нашел в жарких объятиях поварихи, раздававшей в студенческой столовой первые блюда. За глаза ее называли Тюфтелей, что, в общем-то, было изрядной натяжкой. Тюфтелю такого размера, а главное, такой свежести не рискнул бы отведать даже вымерший ныне саблезубый тигр. Грошеву она годилась если не в матери, то по крайней мере в тетки.
Как они занимались любовью – застенчивый зайчонок и эдакая пропахшая кухней корова – и занимались ли они ею вообще, так и осталось тайной. Зато приятели Грошева поимели от этой связи явную выгоду. Раньше Тюфтеля, грубая и вспыльчивая, как пиратский боцман, могла любого из них и поварешкой по голове огреть. Теперь же, наоборот, всегда наделяла лишним куском мяса и двойной порцией сметаны, что для вечно голодных студентов было весьма немаловажно.
К четвертому курсу сексуальная ориентация Грошева определилась окончательно. Пока другие студенты спецгруппы гуляли с однокурсницами, старшеклассницами, «клизмами» из медучилища, «терками» из строительного техникума, «шпульками» с камвольного комбината или просто с веселыми уличными девчонками (особых успехов на этом поприще добился Мартынов, закадривший начинающую балерину), Грошев крутил любовь только с женщинами предпенсионного возраста.
Кроме преклонных лет, всех его пассий: и худых, и толстых, и дылд, и коротышек – объединяло еще одно качество – внешнее уродство. К многочисленным кличкам Грошева добавилась еще одна – Геронтофил.
На производственной практике, оказавшись в бригаде, прокладывавшей столбовые линии связи по глухим пущам и болотам Полесья, он с благословения коллектива жил по очереди со всеми вдовами, в хатах которых они останавливались на постой, чем обеспечивал хороший приварок к казенному пайку, бесплатное бытовое обслуживание, а иногда и лишнюю бутыль самогона.
Ночью, если Грошев не занимался ублажением хозяйки, последний сексуальный опыт которой был связан с нападением на деревню отряда полицаев, он развлекал связистов очередной версией «Одиссеи», перенесенной в наше время и приукрашенной местным похабным фольклором.
– Мастер ты тискать романы, – хвалил Грошева бригадир, делая в последнем слове ударение на первом слоге. – В зоне бы тебе цены не было.
Случались, правда, и казусы. Кто-то из связистов (не обязательно Грошев) подхватил лобковых вшей, быстро ставших всеобщим проклятием. В походных условиях, да еще в этом медвежьем углу, избавиться от них было практически невозможно.
Теперь установка каждой очередной опоры выглядела примерно так. Бригадир, человек с наметанным глазом и громадным жизненным опытом (таких линий связи он в свое время проложил немало, правда, в условиях вечной мерзлоты и под бдительным оком конвоя), становился за нивелир, а рабочие с помощью крана опускали бетонную опору в заранее вырытую яму, обычно уже до краев полную ржавой болотной воды.
Стоять опора должна была строго вертикально, чего требовали отнюдь не законы эстетики, а жесткие технологические нормы. Добивались этого с помощью бригадирского нивелира и физических усилий рядовых членов бригады, вручную регулировавших положение еще не закрепленной опоры.