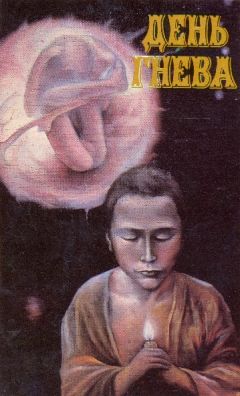в белых одеждах, трепещущихся на холодном ветру. Его лицо всегда холодно и безжизненно, как будто высечено из камня, а душа… у главаря всей шайки её давно нет, она утеряна. Но рядом с ним идёт куда более важный человек – высокая стройная девушка. Она некогда боялась, но в момент, когда проникновенная и восхитительная дама вышла на исполнение приговора под неумолимое рыдание небес, всякий страх отступил от её трепетной души. Самые мучительные секунды жизни стали одновременно и одними из радостных. Даже несмотря на громкое бренчание двигателя, мужчина помнит, как немузыкальную, но берущую за душу и усиливающую напряжённый момент барабанную дробь, которую отбивал дождь об стекло-плитку. Девушка без страха шла навстречу своей смерти, в объятия забвения. Он помнит её как сейчас, ибо образы «прекрасного цветка» вкрапились в подсознание пером горя и боли. Черты тела и души, они и запоминающиеся и слишком милы, невинны для проклятой системы, отчего потеря кажется невосполнимой. Это лёгкий и приятный характер, где небольшая толика игривости разбавлена строгостью и преданностью делу, которое и погубило беднягу; это выразительные оливковые глаза, заглядывающие прямиком в душу и не дающие сна по ночам; это утончённые черты и контуры лица, чуть островатые, но в меру, больше приятные и чуть строгие; это смольный волос, чуть витиеватый, собранный в локоны ближе к кончикам; это подтянутая стройная фигура. Но вот в памяти образы обворожительной девушки сменяются на очертания высоких ворот и площади, которая стала плахой для влюблённых. Приятные воспоминания и ощущения от скоротечного поцелуя заставляют вспомнить лёгкий аромат духов девушки, но может это и обонятельная галлюцинация, вызванная стрессом и депрессией. Но внезапно звучит бодрящее:
- Маритон! – раздаётся приятный мужской голос на весь салон автомобиля, не способный вырвать мужчину из внутренних размышлений. И внезапно весь каскад воспоминаний сотрясает обращение:
«Маритон» - проговаривает внутри себя парень, словно это слово, набор букв и слов, пришло из другой жизни, несоизмеримо далёкой и потерянной. Имя из прошлой жизни, где ещё была возможность получить счастье до момента, когда его лишили этого шанса. «Анна» - то же имя, вышедшее из времен прошедшего бытия, где и осталась душа, не в силах обратиться к реальности и её вызовам. «Анна» - имя человека, некогда что-то значащего для мужчины, а ныне – символ разбитой воли, горечи и безумия, медленного пожирающего то, что осталось от души. Вернувшись к стройной нити воспоминаний, собранной из мириад моментов, парень приходит к печальному исходу, когда на плахе казнили девушку и его возможное будущее счастье. В ушах стоит звонкий приказ, становящийся одномоментно и роком, а по щеке, уже в реальности из единственно живого ока потекла горячая слеза. Яркая вспышка десятков орудий, высвободивших адскую энергию сумасшедших температур, превративших бледную, но приятную кожу Анны в пепел, и стерев образ этого человека из реальности, а безумная рука системного правосудия стёрла её бытия. Мужчина рад погибнуть вместо той девушки, но власть, прогнившая в своей лживой праведности, решила иначе и теперь Маритон вынужден нести груз, несравнимый по тяжести с тысячью печалями и ставший символом уходящего мира и предзнаменованием мук рождения новой эпохи для южного средиземноморья – эпохи креста и меча.
- Маритон, – уже спокойнее зазвучало обращение, голос водителя наполнен спокойствием и пониманием. – Что случилось? Почему ты стал так мрачен?
Мужчина поворачивает лик влево и смотрит на того, кто рядом с ним, перед тем, как дать ответ или вообще промолчать. Подтянутый парень с худощавым лицом на котором растёт небрежная бородка, идущая по всей челюсти, как грязный чёрный мох. Сальные волосы водителя падают на его плечи и чуть сияют на солнце, бьющее прямо в лобовое стекло, что говорит о долгой не ухоженности. Взгляд серых, как металл, очей направлен далеко вперёд, смотря на километры вдаль по прямой дороге. Худощавое тело покрывает чёрный, штопанный повсюду балахон, отдалённо напоминающий церковное одеяние – только кусок чёрной ткани, с рукавами, утянутый на животе старым ветхим пояском.
- Я? – сложив руки на коленях, переспрашивает мужчина, как будто только что выбрался из прострации.
- Ну а кто же ещё? – с лёгкой улыбкой на сухих, выжженных усталостью и чудовищным образом жизни, губах молвит человек и живо продолжает, но, не отбирая внимания от дороги. – Ты лучше посмотри в окно. Там такая красота, такие поля. Они, наверное, последние на всех Апеннинах и больше ты такой радости для души не найдёшь. Скажи честно, разве ты когда-нибудь видел такие луга?
- Да, - слышится безжизненный ответ. – Но это было давно. Очень.
- Может, скажешь когда? Хоть что-то будем про тебя знать, а не только, что ты нам помогаешь.
Мужчина лишь отвесил безжизненный взгляд на священника. Длань опустилась в карман штанин, а левой конечностью человек поправил дырявую майку из кожи.
- Не помню точно, – хмуро и хладно твердит Маритон, сложив руки на груди, так и не найдя в кармане нужной вещицы. – Я помню цветастые луга на севере, там, где сейчас живёт детище Лиги Севера. Они такие же яркие и прекрасные, как это, – он безрадостно говорит о столь изумительном природном явлении. – Я был там, когда ещё жили мои родители. Ох, как же давно это произошло.
Водитель, устремив взгляд на дорогу, которая начинает заворачивать на юг, протягивает правую руку к исцарапанному и помятому бардачку и грязными пальцами отпирает его и копошится в нём, вороша различный хлам – гвозди, тряпки, колпачки, скрепки, какие-то склянки. Но вот его пальцы хватаются за что-то тонкое и лёгкое, что подмечает следовательским взглядом Маритон.
- Нельзя ли окно открыть, Флорентин? – вопрошает малоразговорчивый парень.
- Можешь попробовать, – с усмешкой отвечает священник. – Не думаю, что это у тебя получится.
Бывший слуга Аурэлянской Информакратии достаёт до кнопки, которая отвечает за движение стекла, но старые механизмы эпохального тронутого ржавчиной автомобиля противятся, не хотят впускать свежий воздух со стороны Маритона, которому одного открытого окна мало. Мужчина сжимает пальцы в кулак и бьёт по участку двери и ещё раз жмёт. Несчастное устройство так же противится, за что снова получает удар. И уже тогда «решается» начать работать и опускает окно.
Флорентин Антинори бросает лишь мимолётный взгляд на собеседника, но видит в нём оплот отчаяния и боли, перетекающие в свирепость, которую он стал вымещать на бедной кнопки.
- Сколько злобы, – выдохнул священник, сделал серьёзное лицо, и протянул небольшую бумажку. – Скажи, это