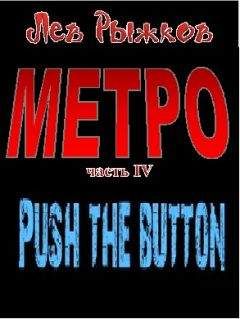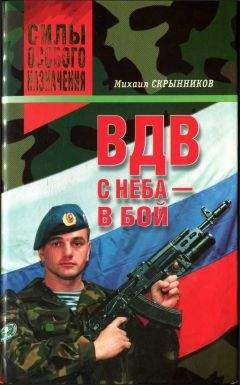горько спрашивал молодой мужчина.
— Жизнь обещала, любовь обещала,
Родина… —
тихо сказал девичий голос.
— Разве для смерти рождаются дети,
Родина?! —
звоном взорвался крик мальчишки.
— Разве хотела ты нашей смерти,
Родина? —
хрипловато произнёс ещё кто-то.
…Страшный грохот заставил всех вздрогнуть. Голубоватый свет погас; его сменило сплошное кровавое свечение, и на заднем плане всплыли зубчатые руины города. Верещагин почувствовал, как по коже побежал мороз, на миг он подумал: боги, неужели всё заново?! Елена сжала руку мужа.
Саваны полетели прочь. И зазвучали уже живые, настоящие голоса…
— Помнишь — ударило пламя в небо слепое,
Родина?! —
спросил почти яростно парень.
— Тихо сказала:
«Вставайте на помощь…», —
Родина! —
почти прошептала девушка.
— Славы никто у тебя не выпрашивал,
Родина! —
запальчиво и гордо сказал мальчишка.
— Просто был выбор у каждого: я или
Родина?.. —
спокойно и уверенно подытожил немолодой мужчина.
Золотые, серебряные и голубые лучи побежали по развалинам, стирая их вместе с тьмой и алым светом. Вновь появились девушка и тот парень, и они читали попеременно:
— Самое лучшее и дорогое —
Родина!
— Горе твоё — это наше горе,
Родина!
— Правда твоя — это наша правда,
Родина!
— Слава твоя — это наша слава,
Родина!
Тишина лопнула и разлетелась в куски. Каждый в огромной толпе принял всё сказанное, как обращение лично к себе.
— Старые стихи… — сказал Верещагин, когда шум вокруг утих — словно волны откатились обратно в море. — Кажется, Роберта Рождественского.
— Ничего. Напишут ещё новые — и о нас. Уже пишут.
— Да… Мне знаешь что жаль только?
— Что?
— Что люди забудут о Великой Отечественной… Я даже чувствую себя виноватым… перед ветеранами…
Ларионов-старший не ответил. На сцене уже разыгрывалась постановка, посвящённая славянским странам, вошедшим в СССР. На фоне белорусского флага кряжистый усатый мужик пел под гитару — а сбоку от него мелькали кадры хроники времён войны — защита Минска, пограничное сражение, взятие Люблина…
— На русском поле «Беларусь» Пахал и пил взахлеб соляру, Давал на сенокосах жару… Но в бак ему залили грусть. Потом в застенках гаража На скатах спущенных держали. Скребла его когтями ржа. И под капотом кони ржали. И сотни лошадиных сил Рвались на русские просторы. Он слышал дальние моторы И каплю топлива просил. Без плуга корчилась земля. Без урожая чахла пашня. Двуглавый герб-мутант на башнях Венчал двуличие Кремля.
И, окружив славянский дом, Пылили натовские танки. Глобальной газовой атакой На Минск надвинулся «Бушпром». И встал мужик не с той ноги, Ко всем чертям отбросил стопку, Заправил «Беларусь» под пробку. К рулю качнулись рычаги. Советский гимн запел движок (Его другому не учили), И, повернув колеса чинно, Он небо выхлопом обжег. И через ноздри клапанов Втянув убитой пашни запах, Он, вздыбившись, повел на Запад Ряды железных табунов. И понеслись в последний бой Все «Беларуси» — белороссы.
На подвиг малые колеса Вели большие за собой. И странно было всей Руси, Великой некогда и смелой, Вставать за малой Русью — Белой И верить: Господи, спаси! И через поле, через мать… Опять сошлись надежды в Бресте, Где сроду с Беларусью вместе России славу добывать. И честью пахаря клянусь, Что, на бинты порвав портянки, Тараном в натовские танки Влетит горящий «Беларусь».
Люди зашумели.
— Лука-а-а-а!!! — орал кто-то одурело. — Батько-о-о-о!!!
Верещагин сказал:
— А что ни говори, а воевали мы его оружием. По крайней мере — вначале. Жаль, что не его избрали Вождём.
— Говорят, он сам отказался, — ответил Ларионов. — Смотри, Боже Васоевич. Сам приехал.
Юный глава югославской Скупщины, смущённо улыбаясь, поднятой рукой пытался успокоить людское ликование.
— Я буду говорить по-русски, — сказал он. — В конце концов, это заслуга русских — что есть моя страна, что у меня, в конце концов, целы ноги. Здравствуйте, братья…
* * *
Где-то уже шумела стройка.
По предрассветной почти пустой улице ветер гнал клочок бумаги.
От водохранилища тянуло речной водой.
Сидя на скамейке, Верещагин слушал Пашку Бессонова.
— Ты знаешь — мне приснился странный сон.
Смешной и страшный, путаный и длинный…
Как будто я был вылеплен из глины
И с жизнью человечьей разлучён…
Как будто я нездешний, неземной,
И будто крови нет во мне ни грамма,
И будто кто-то гонится за мной,
И будто нет тебя на свете, мама…
Как будто бы чужую чью-то роль,
Заставили играть в чужой квартире,
А из всего, что было в этом мире,
Остались одиночество и боль…
И я не знал, где мне тебя искать…
Но я искал, слезу сглотнув упрямо…
Не страшно даже камню кровь отдать,
Чтоб только ты ко мне вернулась, мама…
И не пойму — во сне иль наяву
Мне на плечи твоя рука ложится.
Взаправдашние утренние птицы
Вдруг радостно рванулись в синеву…[8]
— певец прихлопнул струны исцарапанной ладонью, покрытой ещё не сошедшим с лета загаром и тихо сказал, ни на кого не глядя:
— Не бойся. Это сон. Это неправда…
— Пашка, — спросил Верещагин, — скажи мне ты. Всё то, что мы потеряли. Все те, кто погиб. Это было не зря?
— Димка верил, что не зря, — Пашка встал. — А значит — не зря, Олег Николаевич… Ну, я пойду. Хоть пару часов посплю. Вы заходите в отряд, он там же, только не в подвале, конечно.
— Зайду, — сказал Верещагин и, откинувшись на спинку скамьи, закрыл глаза.
* * *
А теперь я хочу обратиться к своим читателям. Я получил немало откликов (фу, какой казённый стиль…), где мне предлагалось превратить этот цикл рассказов в роман. Делать этого я не хочу. Не потому, что не могу, а потому, что — не хочу, и всё. Но я отдаю эту тему и её героев всем, кому пришлись по душе мои рассказы. Почти три года войны, в течении которой я описал лишь два десятка дней из первых восьми месяцев — это благодатный и обширный материал. Условие лишь одно: происходящее должно соответствовать концовке — вот этому рассказу. А так — если у кого-то вдруг появится желание — я ничего не буду иметь против. Если же ни у кого такого желания не появится — я тоже не обижусь. Мне вполне достаточно того, что эти рассказы читали…