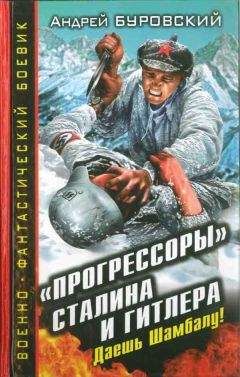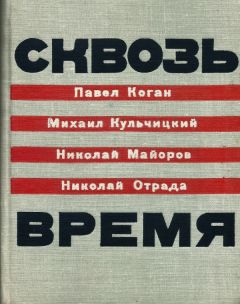Ознакомительная версия.
— Ничто не связывает.
— Петр Исаакович, Петр Исаакович… Таких случайностей не бывает. Понимаю, что вы не все хотите рассказать. Но вы же сами понимаете: вы приговорены. Вас не убили на этот раз — убьют потом.
— Кто?!
— Вы же сами не хотите нам рассказывать, кто. И не так важно, что именно вы не поделили, чем вы так наступили на хвост вашим… знакомым. Важно, что в другой раз вас зарежут.
— Так прямо и зарежут?!
— Ну, застрелят. Хотя скорее зарежут. Вам зачем в рот водку лили? Чтобы сошло за пьяную драку. Напились вы, устроили поножовщину, вам же и не повезло. Понимаете, только мы можем вас спасти. Никто больше этим заниматься не будет.
Участковый выжидательно замолчал. Петя тоже молчал.
— Ну, идите…
Петя попрощался, протянул руку… Участковый уже уходил: маленький, нахохленный, упрямый. Он уходил, ни разу не обернувшись, не подав Пете руки. Петя понимал — всегда они с участковым и вообще с милицией были по одну сторону окопов… А теперь вдруг оказались по разную. Очень страшное открытие для советского человека в тридцать седьмом.
Квартиру, конечно, давно закрыли на цепочку и засов: баба Кира, старая страшная ведьма, скандалистка и самогонщица, смертельно боялась ограблений. Квартира мирно спала: самая обычная для Ленинграда коммунальная квартира на Мойке. В этой квартире из восьми комнат только две занимали Кацы, а в остальной квартире кого только не было! Сейчас, конечно, все спали, и первые, кто рано ложился, — это пролетарий Запечкин, с женой и сыном. Сын женился и получил вторую комнату. Оба они с отцом редко были трезвы, но по утрам честно уходили на работу. Спал и служащий Коленитюк, всегда одинокий, нечистоплотный и несчастный: ему тоже завтра на работу. Спал и военный инженер Зайцев, тоже с женой и двумя дочками ненамного младше Пети.
Кроме Кацев, могли не спать девочки: они по ночам читали при настольной лампе. Пролетарии ругались из-за этого с Зайцевыми: требовали, чтобы они платили за сожженное дочками электричество. И, конечно, могла не спать баба Кира — она вообще непонятно когда спала.
Но открыл дед! Это здорово, что открыл любимый старый дед. У деда прямо лицо задрожало от радости:
— Наконец-то! Мы совсем думали, тебя опять на сборы…
Прошлым летом Петю и правда увезли на сборы Осоавиахима. Увезли срочно, он не успел забежать домой, а порученец с первого курса поленился, сообщил только на другой день.
Никого и никогда не было у Пети ближе и родней странной мужской семьи, в которой (как грустно шутил папа) женщины не выживали. Маму Петя не помнил, бабушку помнил, но смутно. Об отце и о нем, Пете, всегда заботился дед. «За маму и за бабушку», — говорил папа.
Дед и сейчас помчался греть чайник, доставал из буфета колбасу, масло… Папа уже лежал в постели: ему тоже завтра рано на работу, как всем. При виде Пети папа тут же вылез, накинул облезлый халат. Оказалось, Петя и правда хочет есть. Петя давно знал — папе и деду всегда лучше рассказывать правду. Глотая чай, Петя шепотом рассказывал о своих приключениях. Почему шепотом? Потому что в коммунальной квартире по ночам всегда говорят шепотом. Дед вполголоса орал, проклиная на идиш костный мозг, печень и семя негодяев, которые напали на внука. А вот папа… Папа закурил папиросу, и глаза у него стали словно бы оловянные. Тихо, склоняя голову то на одно, то на другое плечо, папа стал задавать вопросы. Следователь торопился, нервничал, папа был каменно спокоен — но вопросы-то были те же самые.
Дедушка хватался за сердце, сдавленно кричал: «Яхве! Яхве! Яхве!» Он морщился, невольно повышал голос и сам же прикладывал палец к губам.
Папа голоса не повысил, но дед верил каждому слову внука, и ему было все ясно. А вот папа не очень верил, что Петя сказал ему все. Папа совершенно ничего не понимал: кто и зачем напал на Петю. Петя — тоже.
— Потому что, сынок, это ведь вовсе никакие не уголовники. И говорят по-немецки…
— Когда я сел, один из них еще сказал по-немецки, что я «готов».
— А потом посветил фонариком и понял, что надо добивать, — неприятно усмехнулся папа. — Кстати, а как твоя печень?
— Еще болит…
Бок вздулся, внутри сильно болело. Папа засуетился, где-то у него лежала на такие случаи припасенная левомициновая мазь. А дедушка, как всегда, стал с папой яростно ссориться:
— Левомицин?! Что такое левомицин?! Мазать надо гусиным жиром!
— Папа, не выдумывай, ничего нет хорошего в твоих гусях.
— В моих?! Мальчишка, ты сказал отцу «в моих»?!
— Ну не в моих же…
— Гусь — это еда! Гусь — это шкварки! Гусь — это перина! Гусь — это спасение!
— Гусь — это клопы…
— Какую ерунду ты несешь!
— Разве нет? Подушка набита гусиным пухом, а из нее лезут клопы… светлый образ местечка…
— Гусь — это способ лечиться!
— Все равно нет тут никакого гусиного жира. Сынок, наклонись немного, смажу бок.
— Нет гусиного жира?! Конечно нет! А не надо было ехать в Ленинград! Я говорил, что ничего хорошего не получится из Ленинграда!
— Ага, надо было подыхать с голоду в твоей Касриловке.
— Не смей называть так Шепетовку! В ней не зашибали людей в подворотнях. Это в Ленинграде такая мода — убивать в подворотнях живых людей!
Петя знал — Касриловку придумал писатель Шолом-Алейхем. Смешную и нелепую Касриловку, пародию на еврейское местечко. Папа ругает Шепетовку Касриловкой потому, что терпеть не может сельской жизни. Папа любит машины, работу турбин и движение. А дед любит гусей, огород, неторопливые беседы с соседями. Он не хотел уезжать из Шепетовки.
— Сынок… — тихо позвал папа Петю. — Сегодня у меня на работе взяли Бориса Моисеевича… За что — не говорят, но знаю точно — это очень порядочный человек. Очень приличный.
Папа помолчал, раскуривая папиросу. Лицо у него было строгое и в то же время грустное.
— Сынок, а давай ты уедешь из Ленинграда на несколько дней? У нас есть дальний родственник в Белоруссии. Мы никогда не виделись, но он тебя примет. Денег я дам… Посиди там.
Несколько минут Петя переваривал… Надо же… Как же испугался за него отец, если предлагает такое!
— У меня ведь экзамен послезавтра. А если оставят на кафедре?
Помолчали.
— То, что случилось, — намного важнее экзамена. Я очень не хочу тебя потерять.
— Я подумаю.
Произнося эти слова, Петя с удивлением понял, что готов послушаться папу. Он и на самом деле подумает. Что-то слишком уж странное и страшное начало происходить в его жизни.
Петя еще не знал, что на раздумья времени не будет. Время на раздумье было поздним вечером, когда папа заговорил о бегстве… Этого времени было совсем немного. Если бы Петя решился бежать и вышел бы из квартиры под утро, часов в пять или в шесть, он успел бы на утренний поезд. Тогда у него тоже были бы приключения, но совершенно другие.
Ознакомительная версия.