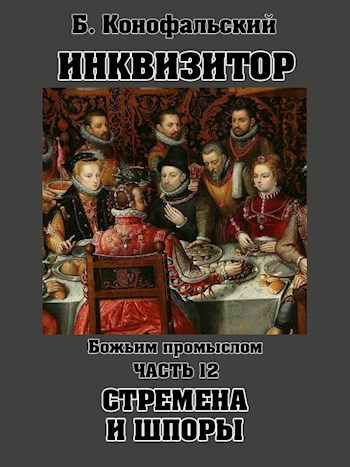называл вас Инквизитором.
— Именно. Так меня и прозывают. И что же ты думаешь, я, Рыцарь Божий Иероним Фолькоф, подбиваю тебя ко греху, к святотатству? Неужто ты думаешь, что я готов поругать истинную Церковь, нашу Святую Матерь?
— Ну а что же это будет, раз не святотатство? — удивился трубочист, но теперь он уже не был уверен, что всё обстоит именно так.
Волков положил ему руку на плечо и заговорил так, как проповедник говорит с прихожанином:
— Когда-то я был таким же, как и ты, простым и грязным человеком, что не видел света впереди, но именно Церковь сделала из меня того, каков я сегодня. И никогда я не пожелаю Матери Церкви зла, а то, что должен сделать ты, так то не во зло Церкви, а для очищения её. Храм освятят вновь, и ничего с ним плохого не будет. А ты, коли будешь следовать словам моим, только ускоришь это очищение, и…, — генерал сделал паузу, — твоя жена и дети будут тобой гордиться и больше никогда не будут мёрзнуть, какие бы холодные зимы ни пришли в Фёренбург.
При последних словах он протянул дублон трубочисту, и тот подставил свою грязную ладонь для золота; и как только монета упала в руку, генерал сразу и спросил, тоном уже деловым:
— Так у тебя есть золотарь на примете, такой, что умеет держать язык за зубами?
— Есть, есть, — ещё немного задумчиво произнёс молодой горожанин.
— И не побоится он дела такого?
— Этот золотарь? — тут Гонзаго ухмыльнулся. — Если ему пообещать полталера за такую работу, он согласится обгадить все храмы в городе и окрестностях. Ещё и на ограды кладбищ нальёт, если ему пообещать за то хоть по четвертаку от монеты.
— Я всегда подозревал, что эти ребята на многое способны, — улыбался генерал.
А трубочист, поигрывая тяжёлой монетой и разглядывая её, спросил перед тем, как уйти:
— Я так понимаю, что эта работёнка будет не последней?
— Работы будет много, — заверил его барон. — Говорю же тебе, следуй словам моим, и твоя семья следующие зимы будет встречать в тепле.
— Хорошо, если так, добрый господин, — ответил Гонзаго и попрощался. — Пойду я; видно, нынче в ночь мне поспать не придётся.
Вот теперь он по-настоящему устал. В молодости всё думал, что самое тяжкое дело для солдата — это сидение в осаде. Но там непрестанное ожидание штурма перемежалось с бесконечными работами на укреплениях и дежурствами на стене или у ворот. Но те дежурства и та работа хоть как-то отвлекали от выматывающего ожидания большой и неотвратимой опасности. К тому же в те времена он был простым арбалетчиком, и надо было ему волноваться лишь за свою жизнь да не бог весть какое имущество, что ему принадлежало.
Но сейчас… Сейчас недолгая деятельность сменялась новым иссушающим ожиданием и тревожными думами. Вот они-то и донимали больше всего: Гонзаго — слюнтяй, это на вид он, конечно, крут, и вёл себя как храбрый разбойник, но как дошло дело до осквернения церкви, так задрожал сразу. Понятное дело, страшно, тут попахивает инквизицией, но ловкач Гонзаго боялся как раз не её. И генерал, возвращаясь домой, всё думал и думал: наберётся ли храбрости смелый трубочист совершить святотатство? Не побоится ли греха? Как ни странно, Божий Рыцарь Иероним Фолькоф ничего подобного не боялся, он даже и не думал о том. Барон уже давно вырос из подобных предрассудков, так как знал изнутри устройство Святой Матери Церкви и понимал, что главный собор и епископская кафедра, принадлежат никчёмным и трусливым людям, чьё и так невеликое влияние в городе надобно ещё понизить. Для того чтобы выиграл… ну конечно же, отец Доменик. Тем не менее, Волков волновался, уж больно высоки были ставки.
Впрочем, у этой нелёгкой его жизни имелась и положительная сторона. Ведь нескончаемые тревоги и бесконечные обдумывания будущих своих шагов так его выматывали, что бессонница окончательно покинула его.
В эту ночь он заснул, едва коснувшись перин, и это при том, что балбес Томас излишне прогрел спальню. Но даже жара не была препятствием для хорошего сна, ведь за ночь он ни разу не проснулся.
* * *
Волков засыпал с этой мыслью и проснулся с нею же. Едва открыв глаза и увидав в комнате Гюнтера, готовившего его одежду, он первым делом спросил:
— Не было ко мне кого? — конечно, он подразумевал, что должен был прийти Гонзаго, — во всяком случае, за деньгами, положенными за выполненную работу.
— Только мальчик пришёл, господин, — отвечал слуга. — Сидит дожидается; прикажете позвать?
Нет, пока мальчик был генералу не нужен, и он лишь спросил:
— Утренняя служба началась?
— Уж полчаса прошло, как колокола били, — отвечал слуга.
И понимая, что следующий вопрос глуп, он всё равно задал его:
— А трубочист не приходил?
— Нет, господин, — отвечал Гюнтер, раскладывая его чистые вещи на кресле возле стола. — Прикажете подавать мыться?
— Неси, — и теперь-то Ёган был уже нужен генералу. — Но сначала позови ко мне мальчишку.
Ёган — вот кто готов был работать хоть утром, хоть ночью. Мальчишке представился шанс заработать, и парень не хотел его упускать; дождь, холод — всё нипочем, весь день готов был провести на улице, лишь бы платили так же хорошо.
— Доброго утра, господин. Надобно чего? — сразу спросил Ёган, встав у двери и глядя, как Гюнтер ставит перед бароном таз с тёплой водой и подает тому мыло:
— Надобно, надобно, — сразу ответил барон; он взял в руки мыло, но умываться не стал, взглянул на мальчишку. — Беги на главную площадь, посмотри, что там происходит, и главное, — барон даже поднял палец, чтобы малец понял важность задания, — главное — послушай, о чём говорят люди возле помоста герольдов. Понял, что нужно сделать?
— Понял, — ответил паренёк, — надобно посмотреть, что в городе делается и о чем болтают люди.
— Именно, — барон сделал жест слуге: поливай, и добавил: — Как выяснишь, так приходи ко мне, я буду в казармах.
Гонзаго не пришёл! Он не переставал думать об этом ни когда мылся, ни когда одевался.
Значит, дело с братом Рейнхауса не сделано. В тот день, когда они избили судью Вулле, так прибежал за деньгами сразу. А