— Но Батя? Президент?
— Он только приказы отдавал. Отца резал на кусочки Балагур и второй еще… Федотов.
— Капитан Федотов? — Игорь вспомнил ухмылочку командира, бросившего его умирать под завалом на Партизанской. — Это он меня… — слова давались ему с трудом. — И автомат дал свой. Без патронов…
— Это они на старости лет гуманистами стали. Сентиментальными стали. А раньше бы, — Антон ядовито улыбнулся, — пулю в затылок, и вся недолга. Или удавку на шею.
— Но карточка доступа… Они отобрали ее у отца? Почему же тогда не смогли пробраться сюда?
— Да, они ее отобрали у папы. Но без кода она только половина ключа. Видел, как они уродовали от отчаяния дверь? И у нас все перерыли, все искали — может быть, этот код где-то записан. Ты помнишь?
Игорь вспомнил ту ужасную полуявь-полусон: здоровенные громогласные мужчины, топчущиеся по их тесной комнатке, свой истошный рев…
— Они ничего не нашли, потому что отец предвидел подобное и не стал записывать код, — торжествующе объявил старший брат. — Код все время был вот здесь! — Согнутым пальцем он постучал по Игореву виску.
— Ты с ума сошел?
— Вовсе нет. Два-три, три-четыре… Продолжай.
— Мы одни в пустой квартире, — тихо стал проговаривать Игорь прилипшую навсегда детскую считалочку. — Семью восемь, три-пять, я иду тебя искать…
— Вот видишь? Ты всегда знал код. Два-три-три-четыре-семь-восемь-три-пять. Кому бы пришло в голову выпытывать код у шестилетнего малыша? Я сам догадался об этом, только попытавшись в первый раз открыть дверь. Восемь цифр. Вводил и день рождения отца, и твой, и свой — бесполезно. А потом вдруг всплыло: два-три, три-четыре… Знал бы ты, как надоел мне в свое время этой белибердой! Убить был тебя готов!
— А карточка? Где ты взял карточку?
— Отец сделал дубликат. Или у него сразу было две. И знаешь, где он ее хранил? Нипочем не догадаешься! В твоей коробке с банковскими картами! Представляешь, что бы было, если бы ты ее кому-нибудь променял?
Теперь Игорь вспомнил, где он видел карту, которой Антон открывал двери: темно-серый, с металлическим отливом прямоугольничек со строчкой выпуклых цифр и без всякого логотипа был парией среди многокрасочных, блистающих голограммами карт всяких «КДФ-банков» и «Империалов». Он дорожил ею по одной простой причине — ее подарил ему папа. И строго-настрого велел беречь. И он берег. Все детство и юность. А потом начались взрослые заботы и проблемы, и детские забавы были забыты…
— Так что именно ты был хранителем. А от меня они так ничего и не узнали. Потому что я сам ничего не знал.
Столько лет Игорь был носителем секрета и ничего не подозревал об этом! Даже честно пытался забыть дурацкий стишок, когда-то заученный наизусть. Вспомнилось лицо отца, играющего с ними, мальчишками, в прятки, хотя куда было прятаться в их крошечном жилище? Странное дело: всегда вспоминалось тусклым, как бы размытым, а сейчас — четкое, яркое… Неужели без фотографии он так и забыл бы папино лицо навсегда?
Братья стояли перед толстым стеклом от пола до потолка, отгораживающим обширный вольер. Стекло было донельзя грязным, покрытым какими-то потеками, исцарапанным, но все равно им было видно крупную тварь, настороженно припавшую к земле, — полом это назвать было нельзя, столько на дне вольеры было грязи, помета, остатков пищи. И костей, слава богу, кажется, не человеческих. Уже само то, что тварь при виде людей не сделала попытки напасть, было удивительно. Желтые холодные глаза только перебегали с одного человека на другого, да голый, длинный, как кнут, хвост колотил по ребрам.
— Видишь, — Антон постучал ногтем по стеклу, и существо, взрыкнув, подалось на полметра назад, — оно не знает, что делать.
— Почему?
— Потом, уже после Катастрофы, папа вернулся в Институт. Мутации тогда уже начались, и он понимал, что сотворил нечто ужасное. Он пытался исправить положение… И нашел парадоксальное решение. Он нашел способ встраивать в организмы тварей фрагменты своей собственной ДНК. Часть себя, понимаешь? Так что они теперь — на какую-то мизерную часть — люди. Наши с тобой братья. По-настоящему. Это как система опознавания «свой-чужой». Мы для них свои.
— А мы?
— А мы — им братья. В нас ведь есть отцовские гены. Они — чуть-чуть люди, мы — немного твари. С тобой эксперимент удался на все сто процентов, ты даже общаться с ними можешь. А меня просто не трогают.
— Так папа…
— Да, совершенно верно. Он бился над тем, чтобы все люди перестали быть для тварей объектом охоты. Так сказать. Пытался обезвредить им же созданную бомбу. Но не успел. Убили.
— И что делать?
— Что? Продолжать его дело! Остались ведь записи, дневники исследований. Где-то здесь, — Антон ткнул пальцем в пол, — архив института.
— У нас не получится.
— У нас — да. Знаний не хватит. Но ведь где-то в метро остались люди с нужными знаниями. Те, кто сможет продолжить дело отца. А если не продолжить, то хотя бы передать знания молодым. Я слышал, что в самом центре метро сохранился целый городок ученых. Надо их привести сюда…
Тварь сделала бросок вперед. С грохотом врезавшись в прогнувшийся иод ее телом плексиглас. Со скрежетом проехали по исцарапанной преграде страшные когти и клыки. Братья отшатнулись от неожиданности.
— Нет, ребятки! Никого мы сюда приводить не будем.
У входа в зал стоял Кузьма.
Одной рукой он прижимал к себе Ингу, зажимая ей широкой ладонью рот так, что над коричневой татуированной пятерней были видны лишь огромные перепуганные глаза. А второй…
— Брось пушечку, старшина, брось, — ласково журчал голос старого гладиатора. — Не ровен час, в щенка своего попадешь.
Кляня себя за доверчивость, Игорь положил автомат на пол и оттолкнул его ногой в сторону.
— Во, молодец… И остальное сложи аккуратненько. И шпажонку не забудь — знаем мы, как ты с этой железякой обращаешься. Братец твой пустой?
— Пустой! Отпусти женщину, Кузьма, поговорим.
— Ничего, потерпит. Так поговорим.
— Чего ты хочешь?
— Чего? — Кузьма опять пьяно хихикнул и шевельнул стволом автомата пеленку, прикрывавшую лицо спящего малыша. — Всего. Вы, братцы, сейчас мне все объясните. И как двери эти открывать-закрывать, и все остальное…
— Зачем это тебе?
— Пожить хочу спокойно на старости лет, вот зачем. А то двадцать пять лет уже живу, как собака. Ни дома, ни бабы путевой… Даже пожрать толком нельзя. А тут, говоришь, и жрачки полно, и выпивки, и не побеспокоит никто. А бабы… Поделим бабу, а, старшина? Ты, допустим, по четным дням будешь ее жарить, я — по нечетным… А братик твой придурошный не в счет… Ну, давай, старшина, кинься на меня, кинься, чтобы я с чистой совестью тебе в брюхо пулю всадить мог.

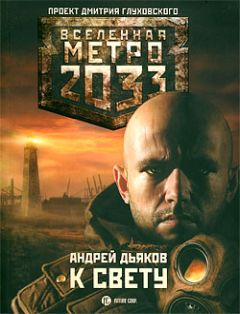

![Сергей Антонов - МЕТРО 2033: В ИНТЕРЕСАХ РЕВОЛЮЦИИ [Темные туннели 2]](https://cdn.my-library.info/books/98348/98348.jpg)

