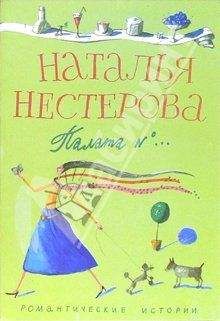– У нас девять эйе? – подсчитал бирюзовые капли Ахмет.
– Это зависит от того, как ты будешь жить. Багучы, жившие очень давно, могли наполнить войском эйе долину большой реки. Некоторые из нашего Следа так помогали Чынгысу – в его войске на сотню живых иногда приходилась тысяча мертвых…
Ахмет сидел, пораженный – об этой стороне Знания он и не догадывался, хотя старик как-то упоминал, что След, которому они с Ахметом принадлежат, начался в самом Тенри-Лля, когда духи ходили по Земле вместе с людьми и Знание было всеобщим.
– Яхья-бабай, я раскопаю тебя и возьму дом духов. И что?
– Как «что»? – удивился старик. – Откуда я могу знать? Сам Тенри не знает, что принесет Река. Для человека лучше жить спокойно, как пытался жить я – кормил эйе, помогал женщинам рожать, убирал за людьми, когда им вздумается сглазить друг друга; а войну оставил тем, у кого есть на нее время. Но ты хочешь другого – и это твое дело; делай, что хочешь. На самом деле нет никакой разницы, все очень просто: Реке безразлично, вылечил ты человека или убил. Важно лишь, как ты это сделал, с сердцем или нет.
– То есть я сам все узнаю. – задумчиво сказал Ахмет. – Так, Яхья-бабай? Может, тогда будет лучше остаться, и нормально тебя похоронить?
– Не слушай меня, глупого старика – никто знает, что принесет Река завтра. Поступай по сердцу, только оно все знает точно. Может, время таких, как я, прошло, и новые багучы станут воевать, как раньше. Хочет твое сердце взять жизнь врага – иди и возьми, я сильно тебя не задержу. Выходи сразу, как зароешь могилу. Пойдем.
Сын Ульфата, поставленный отцом проследить за чужим белемле, доложил отцу, что оба не таких вышли из землянки и пошли что-то закапывать на мысу: чужой нес лопату, а дед Яхья шел налегке. Пройти за ними на мыс не удалось, потому что они все время… Тут пацаненок начал путаться в показаниях, не умея выразить испытанные им необычные ощущения, но отец помог ему:
– Они не смотрели на тебя, но как будто знали, что ты идешь следом?
– Да, отец, точно. Когда эти дошли до мыса, они как будто сказали мне, чтоб я дальше за ними не шел.
– И ты ушел?
– Нет, я же мужчина. Я сделал вид, что убежал, а сам спрятался в броске камня от их землянки и видел, как вернулся чужой. Он поставил лопату у дверей и остался в доме, а я побежал к тебе.
– Он заметил тебя?
– Да, он знал, что я там сижу, но ничего не сказал.
Жестом отпустив сына, Ульфат замер в нехорошей задумчивости. Как поступить в обозначившейся ситуации, что делать со столь явной силой, смирно сидящей в землянке старика Яхьи. Пока сидящей – логично опасался Ульфат, нагруженный ответственностью за своих людей. А ну как ему вздумается… Что именно вздумается, придумать не получалось; однако курбаши, как прирожденный правитель, справедливо рассудил – ну его на хуй. Именно так власть людей относится к непонятному – от непонятного одни заморочки, и нет ничего превыше заведенного не нами порядка; и это правильно, если вдуматься. Принеся огромную пользу, чужак приоткрыл все же слишком пугающую сторону своей природы, и выстрел в спину стал отныне лишь вопросом времени. Однако опасения курбаши были напрасны, предмета его тревоги уже не было в поселке – не взяв с собой ничего, кроме ружья и двух патронов, чужак ушел на запад. Посланный Ульфатом по следу чужака охотник вернулся быстро, слишком быстро: след обрывался за первой же высоткой, скрывшей путника от поселка.
Переходя в Тридцатку, Ахмет не смог удержать перед глазами образ своего Дома, и его выкинуло в довольно неожиданном месте – на самую макушку здоровенной кирпичной кучи посреди разрушенных бомбардировкой кварталов. Замерев с ружьем на изготовку, он долго не мог определиться по месту – на небе не просматривалось даже намека на солнце. Куча обильно заросла, сквозь кусты и сухой бурьян виднеется почти незнакомый пейзаж – понятно, что Тридцатка, центр, но вот где именно… Впрочем, тронувшись наобум, тут же определился – сто двадцать четвертая школа… Была с математическим уклоном, нынче – с кирпично-рябиновым… – подметил Ахмет, удивившись сам себе: оказывается, склонность к черному юмору не стерлась низкоуровневым форматированием; где-то лежала, ждала…Так, а че это вообще со мной? Ахмет остановился, прервавшись посреди установившегося было широкого шага. Человеческое, еще утром казавшееся бесконечно далеким, оставленным на случайной станции три пересадки назад, снова исподволь обступило, обволокло, впиталось; даже фиолетово-белое пламя ненависти, еще недавно турбиной шипевшее в сердце, стало каким-то темным, красным и трескучим, словно жирная сковорода на костре… Костер бы надо. Так, где у нас и высоко, и тихо? А в больничном городке, решил Ахмет. Заодно и поглядим, че у нас тут с населением…
«…Восемь тысяч двес-сти верст пу-сто-ты, Анам-стобой все-рав-но негде ноче-евать… – словно закольцованная лента в голове. – Изродил все-таки мантру, буддист хуев…» Одной половиной головы уважительно перебирая исполнившиеся пророчества Гребня, Ахмет настороженно вилял между кучами, обозначавшими бывшие дома по бывшему проспекту Победы. Следов было мало; можно сказать, вообще не было, однако принимать эту благодать за чистую монету он не спешил. «Святу месту не бывать пусту; погану ж – трикрат». Сказано давно и явно – человеком, насмотревшимся всякого. Больничный городок, или «больничка», с первых дней Пиздеца зарекомендовала себя самым нехорошим образом. Будучи удобнейшим местом что в тактическом, что в хозяйственном отношении, решившихся там поселиться оно выселяло в самые сжатые сроки; причем разговоры о причинах бегства выселившиеся поддерживали крайне неохотно. Нет, болтать, конечно, болтали – разное, сходящееся при мало-мальском анализе к одному: там Эти ходят.
По тем же слухам, Эти были соседями, эксцентричными до крайности – у военного, жившего на последнем этаже заводской поликлиники, они ограничивались тем, что заплетали дочери косички, вовсе не показываясь родителям; однако в основном контакты людей и Этих заканчивались не так трогательно. Начиная с исчезновения полной комнаты людей, согнанных чем-то в кучу, в последней палате на шестом этаже семиэтажного корпуса, и кончая прихотливыми анатомическими инсталляциями в самых неожиданных местах. «Самым гнездом» Этих считался размашисто выстроенный в сталинском стиле туберкулезный корпус; вывод этот был сделан аборигенами из наблюдений за собаками – псы старались не приближаться к «тубику», а будучи вынуждены пройти мимо, вели себя весьма неуверенно. Как-то на торжке у ресторана Ахмет слышал рассказ об отчаявшемся мужике, который ходил искать кого-то своего в сторону «тубика»: ушел, через какое-то время слышат – дуплет, крик, еще дуплет – и вопль, будто на куски его режут. И все, никто даже за ружьем не сунулся. Да что ружье, там за все время ни одного дерева не вырубили, даже когда об Этих болтал один на сотню и еще никто не верил.
«…В общем, переночевать самое подходящее место, – ухмыльнулась часть Ахмета; вторая, человеческая, посерела и затрясла губой, не в силах произнести что-либо членораздельное. – В семиэтажный корпус, на последний этаж, там сто пудов все косяки целые. Эх, псину бы еще привалить на жареху…» Но с псинами стало труднее, зачистка здорово ударила и по их популяции: следов мало, да и те даже не вчерашние. Для порядка зыркая по сторонам, Ахмет добрался до цели, остановившись на границе руин. Последний квартал перед больничкой не особо пострадал от бомбардировки и сейчас разглядывал множеством темных оконных глаз невесть откуда взявшегося здесь чужака. Чужак не торопясь рассматривал осыпающиеся дома, прилегающие к просторной площади перед оградой больничного городка, механически вычисляя места, удобные для выстрела или рывка на перехват; одновременно пытаясь накрыть собой, почувствовать лежащий перед ним ландшафт. Надо сказать, что над больничкой определенно висело – и куда масштабнее, телеснее, злее, чем это представлялось на расстоянии; словно сквозь благостную картинку заметенных снегом корпусов проникало отдающееся в зубах гудение какого-то огромного дизеля, еле слышно ноющего под чудовищной нагрузкой. Вот кого-кого, а людей здесь нет точно.
Брезгливо цыкнув на воющего от страха человечка, ползающего на четвереньках где-то на самом дне души, Ахмет зашагал по целине, деля цепочкой следов девственно-чистую арену площади. Висящее приближалось, вставало во весь рост, нависало, и человек чувствовал себя жуком, вползающим в ангар; однако стоило Ахмету пересечь какую-то невидимую границу, войти, как это чувство бесследно исчезло. Внутри царила безмятежная тишина, безветрие, даже казалось теплее. Стараясь держаться на равном удалении от любого потенциального укрытия, Ахмет прошел в ворота и снова остановился.
Подчеркнуто, издевательски спокойно. Красота – вся мерзость запустения деликатно спрятана под нетронутым снегом, все мягко и округло, даже ветки невырубленных, как везде, деревьев заботливо упакованы, совсем как на оформленной к Новому году витрине. Снег окрашен в приятные охристые тона: небо понемногу желтеет, где-то через час закат, тени сиреневы и глубоки. Человечек, едва сдерживая истерику, подтверждает: да, именно! Пора бы задуматься – закат! Темно же станет!