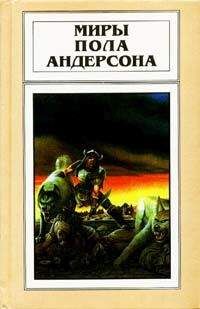того, доплелся до колодца, вытянул ведро с водой, плеснул пару раз, а потом разом вылил на себя.
Хорошо!
И небо ясное-ясное, как у нас на севере. И звезды яркие, налившиеся.
— Ты, парень, не бери в голову. Хочешь, с девкой сведу? Тут много молодых и горячих, а из мужиков — только мы. Нам уж много и не надо, достаточно одной, помягче да потеплее. На тебя некоторые заглядываются, даром, что норд. Понятно же, что молодому надо.
О чем говорил этот беззубый старик? Зачем?
Вытянул еще одно ведро, снова вылил на себя. Потом еще одно. Следующее ведро зачерпнул, чтобы напиться. Только поднес к лицу, как Полузубый схватил его и отдернул.
— Хватит морозиться. Идем-ка!
Силой приволок меня к себе, усадил возле растопленного очага, его женщина принесла сухую одежду. Я не хотел переодеваться, но когда от разогревшейся рубахи повалил пар, в груди неприятно щелкнуло, и я сорвал с себя мокрые тряпки, быстренько обтерся и натянул вещи Полузубого. Меня начало колотить, и баба накинула сверху еще и толстое шерстяное одеяло, наскоро разогрела остатки каши, а Полузубый сунул в руки эль.
И я жевал комковатую кашу, пил горький эль и едва сдерживал слезы. Вдруг ощутил себя мальчишкой, который вернулся в дом к старикам-родителям. Уже почти три года взрослый, рунный, столько всего прошел, столько видел, стольких убил, а тут сидел, жалкий, замерзший, будто щенок приблудный.
Так и уснул в доме Полузубого, привалившись спиной к теплому очагу.
А наутро, едва я протер глаза, бритт сказал:
— Так, малец, поживешь пока здесь. Тот дом для других готовим, а лишнего места у нас немного. Сейчас быстро ешь и давай на улицу! Учить тебя, дурака, буду. И как только норды смогли нас одолеть? С такими-то умениями?
Я смел всё, что мне наложила жена Полузубого, выскочил наружу и едва не споткнулся. Там шла малаха и волокла с собой немногие вещи, что ей надавали: перебиралась к жрецу. Прилюдно. Бесстыдно. И глядела на всех сверху вниз. Меня будто и не заметила. Дрянь!
Ну и пусть. Поглядим, как он выкрутится у малахов. Скорее бы уже ушел, что ли. И эту девку бесстыжую с собой забрал.
— Кай!
Я оглянулся и еле успел поймать новый топор, гораздо лучше прежнего. До стыренного Крысом не дотягивал, но в руке лежал тяжеленько и плотно. И голова не болталась на топорище. Такой зараз не выщербишь.
— В бой!
Прочь дурные мысли о дурных бабах! Вот мужское дело!
Прошло несколько дней, как я перебрался жить в дом Полузубого. И я не сразу сообразил, что кошмары не приходили с той ночи, когда я увидел лицо невидимого человека. То ли Тулле или тот, кто надел его личину, не мог отыскать новый ночлег, то ли бритт изматывал за день меня так, что не было сил на сны.
Пожалуй, впервые я вдоволь дрался с высокорунными противниками. Прежние схватки с Альриком — не в счет. Хёвдинг не мог так много времени тратить на меня одного, да и вообще на учения. Тут же я мог сражаться с утра до вечера, причем с разными людьми. У каждого бритта был свой дар, своя манера вести бой, свое излюбленное оружие. Даже однорукий, едва переучившийся держать оружие в левой руке, и тот сумел меня удивить.
И все эти калеки подбадривали меня, даже когда я валялся в грязи, так и не сумев нанести ни одного удара, подсказывали, как лучше бить и когда уклоняться. И ни один ни разу не сказал ни слова насчет Эйлид. Видать, мне одному она так нравилась. Вернее, нравилась-то она многим, да никто и не думал расстраиваться из-за того, что она нырнула под одеяло жреца.
Да и было у них не всё ладно.
В тот день, когда она понесла в его дом вещи, все слышали, как он громко выговаривал ей на малахском и не хотел пускать внутрь, но она умолила. Вот прям выпросила. И потом нет-нет да и долетали их ссоры. Чаще всего кричала она. Я прямо видел, как жрец спокойно и нудно выговаривает ей, а она вспыхивает на ровном месте, бьет плошки или ломает перья. Хотя нет. Если малаха окажется настолько дурой, что испортит перья жреца или нарисованные крючки, он ее тут же выставит.
А я и злорадствовал, и злился одновременно. Она сама, дура, виновата. Но ведь прикипела к жрецу, ведь терпела его привычки, а он зачем-то терпел ее дурной нрав, хотя даже не любил. А, может, уже и любил. Может, он мне тогда врал.
— Да не прыгай ты, как козел! — кричал Полузубый, наблюдая за моим сражением с Одноглазым. — Сверху особо не увернешься! По низу иди, по низу. Силенок не хватает, так умом бери! Хотя откуда ж у норда ум возьмется?
Я стиснул зубы и сделал, как он сказал: чуть присел и пошел ужом, выжидая момент. Одноглазый, как всегда, не спешил и не атаковал, лишь отбивался. Если я хоть раз стукну его, уже подвиг будет.
Резкий свист!
Мы замерли. И Одноглазый огромными прыжками бросился к ограде, за ним остальные бритты. И я.
Взлетел на насыпь, подтянулся на изгороди и посмотрел наружу. А там на фоне жухлой коричневой травы полыхала рыже-алая голова Фарлея. А за ним в длинных кафтанах из выделанных шкур стояли знакомые до боли лица. Ульверы! Братья!
Я разглядел Альрика в белом плаще, рядом Вепрь, Энок, Аднтрудюр… Все наши! Все живы! Даже Эгиль Кот и Херлиф были с ними. Только Тулле не было.
— Эй, глянь! И вправду жив! — выкрикнул Энок, неизвестно как разглядев мою макушку из-за ограды. — Кай тут! Безумец ты наш ненаглядный!
А с ними были и другие парни, наверное, бритты. Я узнал только Леофсуна.
— Твои? — спросил Полузубый.
— Мои. Только рыжий — ваш. Видишь, безрунный он.
Полузубый на бриттском спросил что-то насчет волков в лесу, и Фарлей ответил целой тирадой, из которой я уловил далеко не все. Обменявшись еще несколькими фразами, бритты договорились, и ворота были открыты, а бревно перекинуто через ров.
Я со страхом и восторгом ждал своих собратьев внутри. Первым влетел Фарлей и тут же рассыпался в похвалах как обустройству самого поселка, так и внешности самой распоследней старухи, причем он умудрялся это делать на двух языках одновременно. За ним вошел Альрик, ни капли не переменившийся с

![Сага о Кае Эрлингссоне [СИ] - Наталья Викторовна Бутырская](https://cdn.my-library.info/books/333241/333241.jpg)
![Сага о Кае Безумце [СИ] - Наталья Викторовна Бутырская](https://cdn.my-library.info/books/333240/333240.jpg)
![Сага о Бриттланде [СИ] - Наталья Викторовна Бутырская](https://cdn.my-library.info/books/333239/333239.jpg)