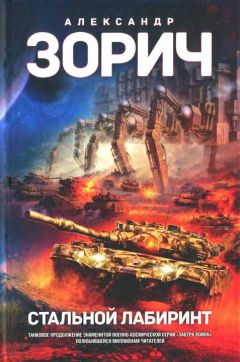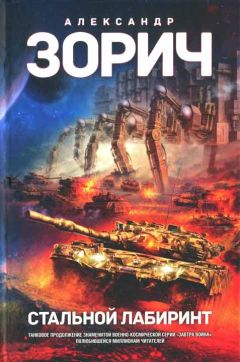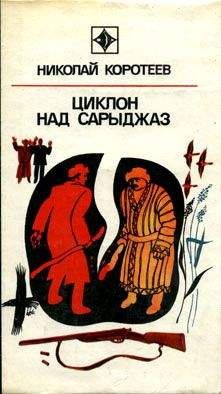Когда носовой срез стального жука навис над первой батареей «Ваджр», храм еле держался…
Хорошо, если работали десять исправных конечностей из двадцати пяти.
Ба-бах! Еще один «Саласар» пожертвовал собой во имя Благой Веры.
Вот его-то огненной лепты храм-шагоход и не выдержал…
Равновесие было потеряно. Увлекаемый вперед необоримой, как сама смерть, инерцией, трехсотметровый стальной корпус храма-шагохода пролетел вперед почти параллельно земле еще шагов сто и накрыл обе батареи разом.
Самая крайняя, не задетая эпическим падением стального монстра, плазменная пушка выпустила еще один плазмоид.
Но тут у расчета все-таки сдали нервы, и пятнадцать фигурок в желтых мундирах безмолвно бросились врассыпную.
— Кажется, я сломал вторую ногу, — жалобно всхлипнул Терен.
— Ничего… Я вас… вынесу… Как дед Мазай последнего зайца, — пообещал Растов, утирая ладонью кровь, которая теплым липким морсом заливала глаза.
И на ходовом мостике стало очень, очень тихо.
Июль, 2622 г.
Госпитальный корабль «Иоанн Кронштадтский» — Москва
Планета Земля, Солнечная система
В то ясное утро, когда находящегося без сознания Растова (его состояние врачи оценили обнадеживающей «троечкой» по шестибалльной шкале скверности) эвакуировали на госпитальный корабль «Иоанн Кронштадтский», что степенно висел на орбите Навзара, Великая Конкордия объявила о своей капитуляции.
И врачи, и раненые — радовались все.
Но радовались вовсе не так шумно, бурно и киногенично, как мечталось в дни войны.
Все как будто делали вид, что так и надо.
Что сюрприза никакого нет.
Что с капитуляцией дело было давно решенное. «А что вы хотели, интересно?»
Притворялся и Растов — конечно, когда пришел в сознание.
И только несползающие, неувядающие улыбки — на лицах медбратьев, врачей, ковыляющих по коридорам выздоравливающих — не давали забыть, что ведь победа, что победили, что вот сегодня, и ни фига ж себе.
— Нынче, когда все это… закончилось, самое время мечты… воплощать. У вас есть мечта, товарищ Константин? — спросил майора медбрат, медлительный двадцатилетний парень, похожий на очеловечившегося пингвина, методично облепляя рану Растова очередной порцией круглых датчиков величиной с монету. Медбрат настоятельно требовал, чтобы его звали Ильюшей — не Ильей, не Ильей Владимировичем и не «молодым человеком».
— Мечта? — Растов сделал задумчивое лицо и привычно поднял руку — он уже знал, туда, под мышку, сейчас прилепят кусачую штучку.
Мечта… Он, конечно, сразу подумал про Нину Белкину. Про ее требовательные живые губы, толком так и не узнанные им. Вот какой была его сокровенная и, по совести говоря, единственная мечта.
Но разве пристало говорить о таком медбрату Ильюше? Ведь пацану наверняка покажется, что это мелко для героя войны, что такая мечта слишком уж из животного царства. Какие-то там «алые губы»…
Впрочем, Ильюша спрашивал не столько для того, чтобы узнать мнение Растова, сколько в целях озвучить собственное.
— Я вот лично решил, что буду в медицинский поступать. Надоело быть никем. Накувыркался тут в последние месяцы по полной, по две смены… как робот. А вот стану доктором — совсем по-другому пойдет, так ведь? — сказал Ильюша, размешивая сахар в чашке травяного чая — его он заварил для Растова.
— Каким?
— Что… «каким»? — Ильюша поглядел на пациента встревоженно. Нет ли температуры? Галлюцинаций? И если нет, отчего тогда говорит невпопад?
— Каким врачом, я имею в виду. — Растов закашлялся, дышать было больно.
— Ну, каким… Хирургом, наверное! На войне оно нужней всего.
— Но ведь война закончилась. А следующая, даст бог, не скоро.
— Черт! А ведь вы правы, товарищ Константин! Уже вылетело из головы! Привык жить по принципу «дотянуть бы до победы»… А как победа, так и неясно, какой девиз теперь… Куда тянуть… В общем, может, и не хирургом, раз так. А педиатром…
— Любишь детей?
— Не знаю, — честно сказал Ильюша и протянул Растову чашку.
— Тогда зачем педиатром? Одинокие молодые мамаши нравятся? — Превозмогая боль, Растов приподнялся вместе с управляемым оголовьем кровати и подмигнул своему опекуну. — Румяные такие, недоухоженные, пышные и молочные, всеми на свете мелочами озабоченные?
Ильюша густо покраснел. Похоже, Растов, даже будучи весьма посредственным человековедом, прочел в его малоопытной душе как в рекламном буклете.
— Насчет педиатра я сказал для примера. Вообще, рано пока про специализацию решать… Экзамены хотя бы сдать вступительные, потом разберусь!
— У фронтовиков должна быть льгота, — заметил Растов наставительно.
— Серьезно? — удивился Ильюша. — Льгота мне бы не помешала! Потому что с органической химией у меня — форменная засада… Не говоря уже про физику… И про биологию.
Растов понимающе кивнул. «Дети-дети… Мне б ваши проблемы».
В госпитале Растов пролежал целую неделю. Но эти семь дней показались ему полноценным месяцем.
Нет тяжелей пытки для деятельного человека, чем быть прикованным к койке, чем чувствовать себя безголосым, безвольным, обременительным объектом приложения чужих усилий, над которым с утра до вечера кто-то умелый и дотошный колдует — то мануальный терапевт, то оператор очередной целительной машины, то мастер глубокой психокоррекции, то виртуоз сращивающих техник, а то гений местной анестезии…
Зато к концу этой налитой болью и забытьем недели Растов вдруг понял: во время своих овощных лежаний он кое-чему бесценному научился.
А именно: с благодарностью принимать чужое внимание. И не стесняться его.
А еще он научился быть незаметным и выучился не плакать от ярости и нетерпения, даже когда кажется, что превратился в них весь.
Научился обходиться без деятельности. И даже без ее симуляции.
Научился быть семечком одуванчика, парашютно летящим на майском ветру.
В перерывах между процедурами Растов совершенно ничего не делал.
Не читал.
Не смотрел визор.
Не лазил по сетям и не играл в игрушки-стрелялки.
Он лежал и думал. И мечтал.
Да-да, о Нине. О ней одной.
Меж тем с ним все время пытался кто-то связаться.
В первую очередь, конечно, родители. Но каждый раз он страдальчески закатывал к потолку глаза и врал докторам, что складывать слова в фразы не может физически, что нет сил и головокружение.
Нет, с матерью он все же уговорил себя поболтать — на шестой госпитальный день.