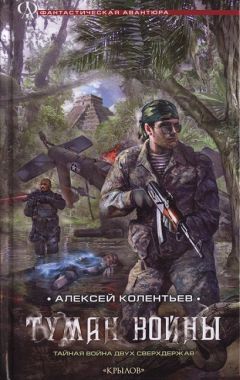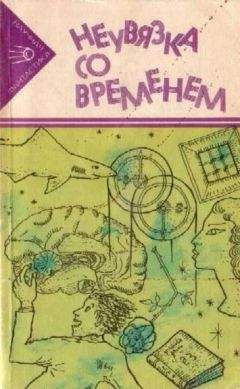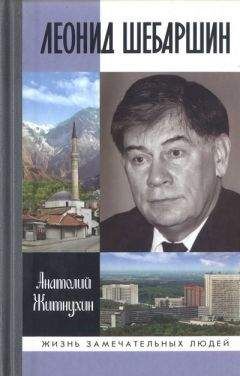— Взгляд у них у всех загнанный, боятся они что-то невпопад ляпнуть. Вот тот, последний, с крашеной шала… девушкой, — тяжелый, давяще-неприятный взгляд Седельникова уперся в дрожащий на паузе кадр, запечатлевший счастливого перебежчика, — этот сам перебежал, но все равно чего-то боится. Сломали их. В плен сдаваться нельзя, иначе, как эти бля… козлы, будем блеять под чужую дудку.
Инструктор удовлетворенно кивнул, а я только после слов Вампира понял, что смущало меня все полтора часа просмотра. Седельников всегда умел чувствовать чужой страх и, что самое главное, умел обуздать свой собственный. Впоследствии я не раз и не два убеждался в правоте сокурсника: предавшего раз Судьба клеймит иудиной печатью на всю оставшуюся жизнь. Такому человеку нет доверия даже среди бывших врагов. Ведь ничего нет страшнее, чем твой вчерашний товарищ, убеждающий тебя с экрана телевизора воткнуть штык в землю. Поэтому все мы, сидевшие в том классе, отлично сознавали, как жалок сломленный человек, а вскоре каждому в свою очередь пришлось ломать на допросах чужих пленных, превращая их волю в слякоть. По-настоящему начинаешь бояться не смерти, а именно вот этого состояния слякоти, до которого можно довести человека, мгновение назад бывшего сильным, смелым и непримиримым.
За последние полгода активной работы сначала в Перу, а теперь здесь, в Колумбии, через мои руки прошло десятка два тех, на чьем месте с большой долей вероятности мне предстоит оказаться, быть может, уже завтра. Это, и еще острое нежелание вести людей туда, где всех нас поджидает верный трындец, были на данный момент моими единственными поводами для беспокойства. О вероятности такого окончания карьеры каждого из нас предупреждали еще на вербовочной беседе, и никто не отказался, ибо все прекрасно понимали, что в этой игре правила никогда не меняются: так или иначе ты умираешь, только с течением времени способы становятся все изощреннее. Либо ты это принимаешь как данность, либо отправляешься командиром заставы куда-нибудь на Чукотку, поскольку уже знаешь слишком много. Вход рубль — выход два. Теперь герою дают возможность осознать, что есть вещи похуже телесной смерти, когда умирает душа, а тело смотрит на это как бы со стороны… Никого к такому сценарию подготовить невозможно, поэтому среди нас исчезающе мал процент любителей давать интервью по ту сторону линии фронта. Мы как никто другой знаем цену страха и, самое главное, чего стоит бояться по-настоящему…
Я собрал пожитки, повесил автомат на шею, и мы с Герой направились к общему бараку, откуда уже раздавались громкие голоса — видимо, Славка как умел развлекал высокое начальство. Подняв голову, с удивлением заметил, что палящее обычно солнце скрыто плотным слоем облаков. В воздухе чувствуется привкус озона, значит, ночь будет безлунной, что для нашего безнадежного дела почти идеально. Хоть погода нам в помощь, раз все остальное по совокупности ополчилось против пятерых советских граждан в совсем не шутейном ключе.
Герман, явно демонстративно разыгрывая роль любопытного журналюги, озирался по сторонам, пока мы петляли по узкой тропинке между деревьями. Смотреть-то особенно было не на что: лагерь, состоящий из десятка построек, укрытых под скальными карнизами и кронами деревьев, каждое из которых ростом с пятиэтажный дом, а то и выше, не производил впечатления организованного поселения. Жалкие хижины давали укрытие от дождя, но и только. Все было рассчитано так, чтобы в любой момент сняться с места и раствориться в сельве без следа. Комфорт, принесенный в жертву безопасности — норма партизанской жизни, на каком бы континенте и в какой бы стране это ни происходило. Везде, где люди решили, что лучшим способом доказать свою правоту будет уйти в лесную чащу и оттуда объяснять оппонентам, что и как те делают неверно, жизнь партизана выглядит примерно одинаково. Здешние домики отличались только тем, что стояли на врытых глубоко в землю бревенчатых сваях, поскольку во времена сезонов дождей такую хижину просто затопит. Наш лагерь отдаленно напоминал кривую деревенскую улицу, с тем только отличием, что кругом были нездешнего вида папоротники и деревья с непривычно гладкими стволами. От растительности на земле избавлялись, однако не трогая деревья, дающие хорошую защиту от солнца и воздушных наблюдателей федералов. Американцы предлагали колумбийскому правительству распылять репелленты, чтобы выкурить из чащоб особо упорных вояк, но чиновники мудро рассудили, что партизаны могут и сами кончиться, а вот лес на продажу на их веку уже не вырастет, поэтому вежливо, но твердо отказались.
Мы подошли к избушке, имевшей вид пенала и оттого отличавшейся от бочкообразных лачуг по соседству. Из открытой настежь двери по земле стелился сигаретный дым, слышались громкие голоса подвыпивших людей. Мысленно я проклял свой собственный приказ принять проверяющего «как положено» — видимо, Детонатор уже споил столичного гостя, раз в самом разгаре конкурс «Лейся песня с водкой пополам». Виновато глядя на связника, я жестом предложил ему подняться в помещение, затем, строя самые скверные предположения, вошел сам.
В избушке было сильно накурено. Нет, до состояния повешенного топора еще было далеко, однако проверяющий был в полной прострации, чего не скажешь о моих архаровцах и вновь прибывших Мурзилке и Вампире. Парни порядком прокоптились на солнце, шевелюра Мурзина, выгорев, превратилась в белесую щетину, придающую круглой, словно шар, башке «универсала» вид зреющего одуванчика. Только Седельников ни капли не изменился: все тот же тяжелый, внимательный взгляд зеленых, глубоко посаженных глаз, курносый нос и тонкие бескровные губы на круглом лице. Вновь прибывшие хоть и сидели с полными чашкам с чем-то горячительным, но пьяными не казались. Да и мои разбойники тоже вроде как были далеки от состояния «полного самоуважения». Славка держал в руках нашу общую семиструнную гитару, изрисованную синей шариковой ручкой. Справа на корпусе инструмента был изображен почти пасторальный сюжет: девушка выдающихся достоинств с длинными волосами, одетая в нитевидное бикини, сидящая под раскидистой пальмой на морском берегу. Руки красавицы были заведены за спину, на них она опиралась, голова чуть запрокинута, волосы достают до самой земли.
Стол, как водится, сооруженный из патронных и оружейных ящиков, накрывали местные газеты, на которых стояли нехитрые блюда, в основном консервы и местные овощи, из которых знакомыми были только лук и пунцово-красные помидоры. Но на этот раз стол украшало большое блюдо, на котором лежали куски жаренной с рисом свинины. Розовое мясо в залежах коричневатого риса, приправленного жгучими специями, — это деликатес сродни именинному торту. Рядом с нашим штатным виночерпием и тамадой в одном лице восседал широкоплечий рослый мужик в белой безрукавке, из нагрудного накладного кармана которой свешивался небрежно засунутый туда дорогой галстук. Лицом проверяющий, а это несомненно был он, неуловимо напоминал актера Рыбникова[98] в молодые годы. Только моряк был раза в два крупнее и носил короткую бородку и усы. В здешнем посольстве как сам военный атташе, так и все его помощники служили именно по морскому ведомству, поэтому в морском происхождении гостя я нисколько не сомневался. Моряк что-то громко рассказывал, когда Славка вскочил, резко вскинув руку к съехавшему на самую макушку кепи: