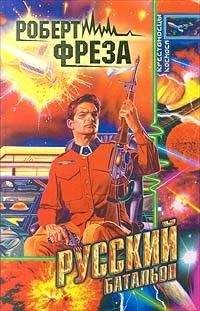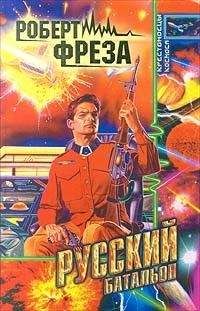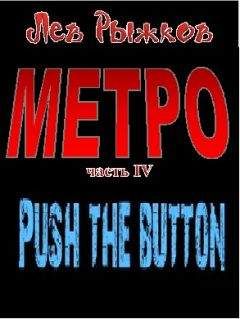– Ты сказал Солчаве, что это была твоя идея… – начал Харьяло, еле сдерживая яд.
– Ответственность моя, – ответил Верещагин, и на лице его сразу проявилась усталость. – Она завтра вернется в госпитальную роту, как только Ева решит, кого можно будет поставить на ее место. Харьяло стоял с открытым ртом, но ни слова не сказал.
– Так вот, Матти. Я знаю, твое преимущество перед Раулем в основном состоит в том, что ты уже несколько лет читаешь мои мысли. Но ты не подумал, что и я мог научиться читать твои? Как я говорил Раулю, очень редкие из нас имеют реальную возможность выбрать дорогу в этой жизни. У меня ничего нет для себя, только батальон. У тебя, я думаю, тоже. А если ты будешь добр запереть дверь, то у меня найдется полбутылки. Судя по твоему виду, ты не откажешься выпить.
Харьяло наконец закрыл рот и посмотрел на свои руки таким взглядом, словно у него случилась осеч– ка. Верещагин тем временем слазил в рюкзак и извлек оттуда флягу и пару стаканов. Налил, передал Харьяло.
– Бонд начинает распадаться как организация. Думаю, что боковые Ответвления не намного переживут его, – заметил Верещагин.
– Значит, все кончено, – констатировал Харьяло. Верещагин взглянул на Харьяло.
– Брось, Матти, ты же знаешь, что так просто не бывает.
Он поднял стакан и посмотрел на прозрачную жидкость.
– Несмотря на все наши благие намерения и чаяния, через пару дней мы будем иметь полдюжины инфицированных населенных пунктов. Через четыре дня их будет в два раза больше, как минимум. Альберт Бейерс уже принял срочные меры по сооружению оград вокруг Претории, Йоханнесбурга и Блумфонтейна. Это не поможет, но пренебрегать этим не следует. Ему нужна собственная военная сила. У нас есть кое-какие люди, которых мы можем одолжить ему. В частности, это один африканер по фамилии Сниман. После того как заболевания начнут расползаться своим ходом, можно ожидать вспышек насилия. И может быть еще много крови, куда больше, чем мы пролили. В конечном итоге мы обнаружим, правильно ли мы направили ход истории.
Он неожиданно улыбнулся, а от его печального взгляда на душе у Харьяло похолодало.
– Через четыре дня, – продолжал Верещагин, – ты станешь командиром батальона. Возьмем к себе, что сможем, от гуркхов. Кольдеве мы оставим его роту, Сиверскому – тоже.
Харьяло поразмыслил, прикрыв глаза, а потом, распахнув их, медленно произнес:
– Зачем это, скажи. Что-то я тебя сейчас не понимаю, Антон.
– Что, батальон? Ты подумай, Матти. У меня будет четыре, максимум пять лет, чтобы преобразить лицо этой планеты. Ты думаешь, меня оставят на службе Его Императорского Величества после того, что я сделаю здесь? Уверяю тебя, нет. Что же касается Наташи, она смотрит на мир через цветные очки. Мы разбили их с Раулем прямо, я бы сказал, у нее на лице, и я видел, как у нее в глазах появилась кровь. Она простит, может, пожалуй, даже забыть, но что-то в ней умрет, а я не Христос, чтобы воскрешать мертвых. Мы делаем то, что должны делать, Матти.
– И расстреливать тех, кого не можем переделать, – закончил за него Харьяло.
– Она неунывающая женщина. Она довольно высокого мнения о тебе. Уверен, ты и сам об этом знаешь. – Он остановился. – Восемьдесят семь единиц потерь, – пробормотал он, чтобы заполнить паузу.
– Плюс чуть побольше на другой стороне. – Харьяло замолчал, но потом снова открыл рот. – Антон, а что мы тут делаем? Я имею в виду – сейчас?
Верещагин оставил в покое свои руки, трубка свободно закачалась в воздухе, что означало: вопрос серьезный, надо подумать.
– Мы закладываем новый фундамент здешнего общества, Матти, – наконец произнес он. – Используя то, что можно спасти из старого.
– Не часто ли это происходит? Во вторник Рождество. Не странно ли? – сказал Харьяло.
– Это мне напоминает кое-что, – сказал Верещагин. – Ты знаешь, что среди активов батальона, спасенных подполковником Хигути в космопорту, были его волынщики?
– Волынщики? Гуркхи-волынщики?
– В юбках. Они очень даже неплохи. Я сам слышал, как они играют.
– Волынщики? – недоверчиво переспросил Харьяло.
– У нас никогда не было оркестра, – с ребячьей невинностью завершил Верещагин. – У нас есть остаток сегодняшнего дня и весь завтрашний. Надо научить их играть «Маленького оловянного солдатика» и «Свистящего свина».
Санмартин подошел к группе беженцев, которых пограничники и люди Бейерса отловили по подозрению в заболевании. Санмартин выбрал одного человека, одетого в чужую одежду, явно не подходящую ему. Он был похож на ястреба, на лице отросла двухдневная щетина, волосы были тронуты сединой.
– Не староваты ли для такой одежды? – спросил Санмартин.
– Вы еще как правы. Это жуть, они не имели права призывать меня в таком возрасте, – небрежно ответил Мигер.
– А ты здорово похож на одну фотографию, которая у нас есть. На Дэнни Мигера.
– О, вы льстите мне. Насколько я знаю, он куда симпатичнее.
Санмартин улыбнулся, вспомнив историю Ёсицунэ и Гинкэя.
– Меня зовут Санмартин. Рауль Санмартин. Глаза Мигера загорелись.
– Капитан Санмартин, рад с вами познакомиться. Вы себе сделали имя. Третья рота, Йоханнесбург, я помню. Зовите меня Дэн, прошу вас.
– Ладно. – Санмартин смерил Мигера взглядом. – Ну, так что думаешь?
Мигер подумал как следует.
– Хорошо, Рауль. Я видел ковбоев, буров, а теперь вижу и имперцев. Вы то еще сборище негодяев. Я в вас всех не вижу разницы, но не мне об этом говорить. – С этими словами Мигер полез в карман и извлек оттуда пластиковый конверт. – Мой друг просил меня передать это, письмо адресовано его внучке, женщине по имени Брувер. Мне кажется, что вы сможете передать это ей и сделаете это лучше, чем кто-либо другой.
Санмартин посмотрел на имя. И кивнул. Теперь у него появился хороший повод увидеть ее – теперь, когда Варяг приказал Мише, чтобы тот перестал прослушивать ее линию.
Санмартин вспомнил конец истории о Ёсицунэ. Благодаря военной доблести Ёсицунэ его брат стал сегуном, но сёгун никого так не боялся, как сверхсильного вассала. Будучи преследуемым беглецом, Ёсицунэ переоделся слугой своего вассала Гинкэен. Но его узнал начальник стражи брата. «Ты похож на Ёсицунэ!» – воскликнул начальник стражи. Гинкэен немедленно начал бить своего хозяина по голове, плечам, приговаривая: «Как ты смеешь быть похожим на Ёсицунэ!»
Капитан отпустил всех, а Мигеру сказал только: «Удачи тебе, старик. Проверься и сделай укол».
Несколько часов спустя на площадке, выровненной бульдозерами, Кольдеве прочел хриплым голосом эпитафию – первые строки из поэмы Гейне:
Verloren Posten in dem Friedenskriege,
Hielt ich seit dreissig Jahren treulich aus.
Ich kaempfte ohne Hoffnung, dass ich siege,
Ich wusste, nie komm ich gesund nach Haus.
Потом он перевел: