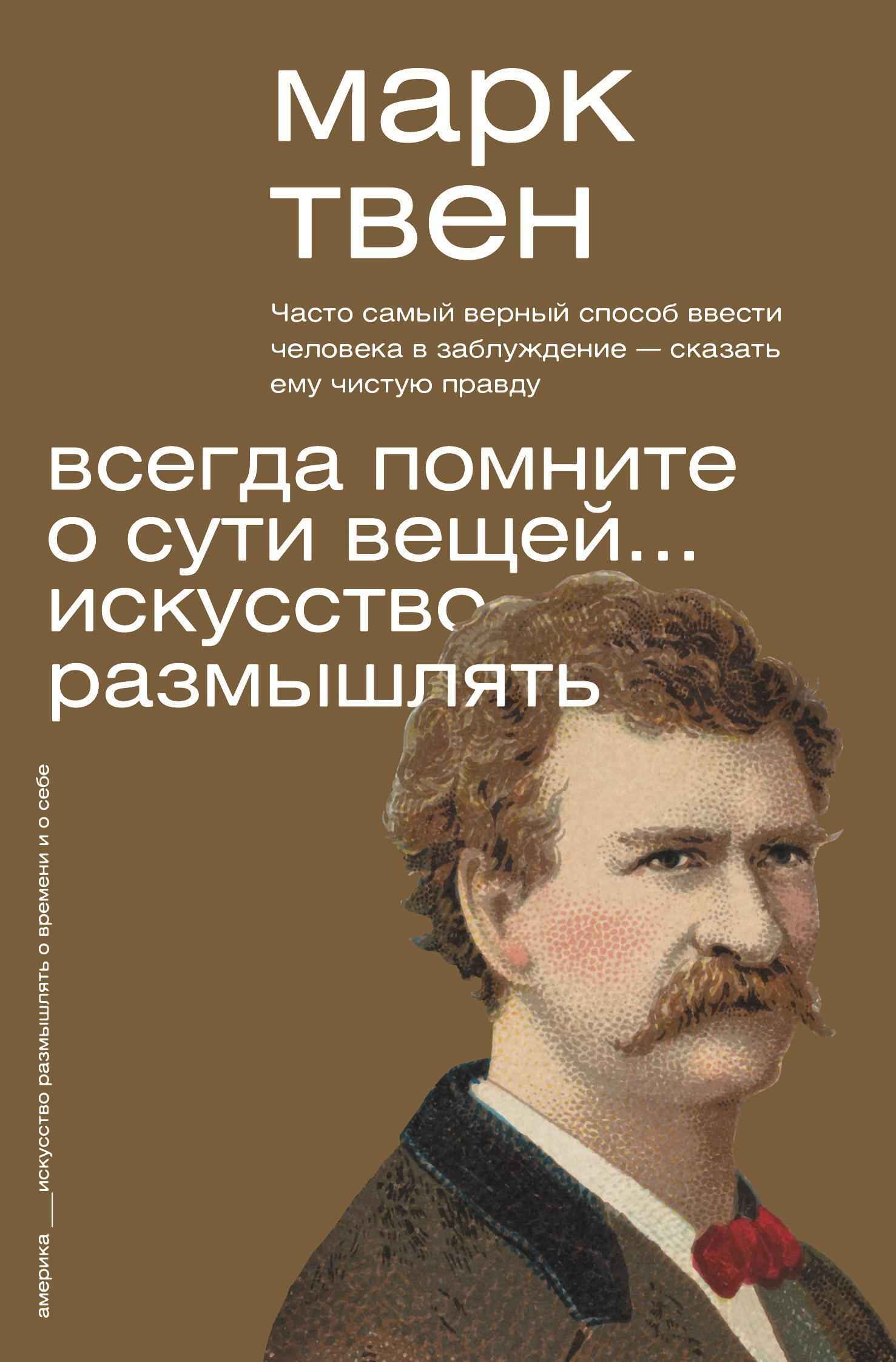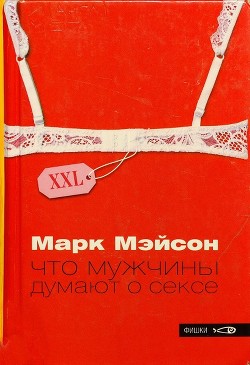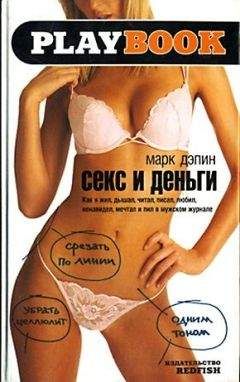прислушиваясь. На кухне что-то шкворчало на плите. Иван мысленно обрадовался, что они мало что общего имеют с человеческими органами правопорядка, и тихонько прошел мимо двери на кухню прямо по коридору.
Довольно большая трешка была обставлена словно дом-музей какого-нибудь поэта-серебряника: резная мебель темного дерева, в каждой комнате стеллажи с книгами, ковры на полу и стенах, винтажные люстры, бра, латунные ручки. В каждой комнате гравюры и картины, написанные явно акудзинами.
Иван неспешно прошёлся по всем комнатам, сфотографировал на смартфон обстановку, особое внимание уделив книгам и картинам, и бодро направился на кухню.
Горелов стоял спиной к двери в одних трусах и переднике и жарил котлеты на чугунной сковороде. Он замер, почувствовав чье-то присутствие, и медленно повернулся, выставив перед собой кулинарную лопатку словно клинок.
Ворон не удержался от нахальной усмешки. Он вальяжно устроился на стуле, вытянув вперед ноги и положив руку на стол. Иван побарабанил пальцами по столешнице, оглядел Горелова с ног до головы и скривился. И этот субтильный, тощий, бледный и уже совсем немолодой мужик — маньяк, лишивший жизни восемь женщин? И почему все душегубы такие... никакие? Будто из пособия по психоанализу, из глав про трудное детство и сексуальную неудовлетворенность.
— Ну привет, Горелов.
— Добрый день, — выдавил из себя хозяин квартиры. — С кем имею честь?
— Воронов Иван Иванович. Следователь Седьмого отдела.
— Что же вы не предупредили? Я бы это... встретил как полагается.
— А мы обычно приходим без предупреждения. Вдруг ты тут очередную жертву пытаешь.
— С чего вы взяли? — будто обиделся Горелов. — Я свое отсидел. В Солянку больше не хочу. Жизнь без подпитки для акудзина — это не жизнь.
— Вот как? А ты знаешь, мы тут недавно упекли на пожизненное одного маньяка. У него правда жертв поболее было, но боюсь, если возьмёшься за старое, вернешься в Солянку и уже не выйдешь из нее, — оскалился Ворон, и Горелов сглотнул вязкую слюну.
Он выключил плиту и сел за стол, сложив перед собой руки. Поднял на Ивана мутные серые глаза и спросил:
— Так зачем вы здесь?
— Хочу узнать, где ты был в ночь с шестого августа на седьмое и с двадцать восьмого августа на двадцать девятое?
— Я вернулся из Солянки только десятого, так что в первом случае еще был там. А двадцать восьмого... — Горелов поднял взгляд к потолку и задумался. — Не помню, если честно. Я немного того...
— Чего «того»? — грубо спросил Ворон.
— Друг мой, я очень и очень болен,
Я-то знаю (и ты) откуда взялась эта боль!
Жизнь крахмальна, — поступим крамольно
И лекарством войдем в алкоголь!*
— Мог бы просто сказать, что ушел в запой, — скривился далекий от поэзии Ворон.
— Не то, чтобы в запой... Просто немного устал, — словно оправдываясь отвечал Горелов.
— Я изучил твое дело... Вот скажи мне, Аркадий, зачем восемь девушек загубил? Только стихами не отвечай.
— Не знаю. У меня не все дома, мне таблетки в Солянке прописали. Я слышал голос... — прошептал Горелов, глядя в одну точку.
— Голос? — опешил Ворон, осознав, что перед ним очередной шизофреник.
— Ага. Ведь сущность несмотря на то, что дает нам лошадиное здоровье, не спасает от ментальных болезней.
— Я в курсе. Только вот не могу понять одного... Как ты вообще додумался до такого... подвешивать вниз головой, чтобы они умирали как бы от естественных причин?
— Голос сказал.
— Голос ему сказал, — зло передразнил Иван. — А он тебе не сказал убрать свидетеля? Если бы не тот мужик с доберманами, ты бы не увидел застенки Солянки.
— Я бы не справился тогда даже с человеком. Сил было мало... очень мало, — словно сожалея проговорил Горелов, и Ворон вскочил, понимая, что находится на грани убийства.
— Я вызову тебя в Седьмой отдел на официальный допрос под камеру. Будь добр, никуда не уезжай из города. Пожалеешь, — процедил Иван и направился на выход.
Этот акудзин вызывал у него лишь отвращение, а отвращение у Ивана быстро перерастало в ненависть, так что лучше было уйти, пока не убил на месте. Несмотря на пренебрежительное отношение к людишкам, Ворон считал, что никто в этой жизни не может решать кому жить, а кому нет.
*Отрывок из стихотворения Геннадия Шпаликова «Друг мой, я очень и очень болен...»
Глава 4
Кирилл Альбертович Калинин, он же Ищейка, раздав всем указания, прошел в свой кабинет, но, прежде чем приступить к изучению дела, прикрыл глаза и расслабился, выгоняя все лишнее из головы.
В последнее время столько всего навалилось, что сосредоточиться на работе было нереально. И как Константинов его до сих пор не уволил? Кирилл будь на его месте, уволил бы сам себя, не раздумывая.