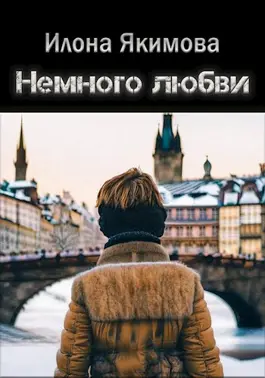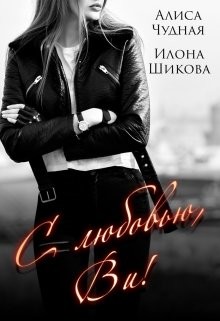рождения дочери и вероломного поступка старой дряни, госпожи Малгожаты. Агнешка не простила Эле Крумлова и любви их общей бабушки. Еще больше не простили они ей, ни пани Криста, ни Агнешка, отказа расстаться с Крумловом.
Суп, второе, салат, полагался еще десерт. У матери вечно кормили, как не в себя, да еще со стремительной переменой блюд, с позвякиванием немецких мадонн на фарфоре. Послевоенная, она в поесть вкладывала доступный ей способ заботы, и надо было порядком поучиться, чтоб это понять, но принять не удалось, удалось научиться отказываться. Агнешка, напротив, сызмала отказывалась от еды, как от аналога любви — чтоб затребовать ее еще больше. Агнешке удалось пробить мать, но Эле не давали, ее только кормили.
Если любви не было в детстве, ты попытаешься добрать ее в юности. Если любви не было в двадцать, то ее не было в двадцать. Никакой возрастной реванш не окупит тебе утраченной юности. Пани Криста мертвой хваткой держалась за дочерей в их двадцать лет. Какие там отношения и мальчики, когда мама волнуется, когда мама не может спать? Эла сбежала учиться в Варшаву, и потому считалась пропащей уже тогда. Но мало уехать от матери, когда в любую Варшаву увозишь с собой цельную, внутреннюю мать. Никакие отношения в сорок не компенсируют того, что за тобой не ухаживали в двадцать пять, особенно, если их и нет, тех отношений. Шлак эволюции, вот как ты себя ощущаешь. Есть те, кого любят, а еще есть такие, как ты. И еще есть одиночество, бездонное, как пять океанов и шестьдесят семь морей.
Портрет госпожи Малгожаты, перевязанный черной ленточкой, молчал на стене. Там ей навеки семьдесят, и седые волосы уложены в сложную прическу, по форме напоминающую венчик колокольчика. Бархатное платье на ней черное, угольное даже на черно-белом фото. Эла до сих пор из детства помнила запах, каким пахло в старом шкафу в Крумлове, запах залежавшейся рассыпчатой пудры в желтенькой металлической пудренице. Племянники Томаш и Эва вяло ковырялись в кнедликах с сливами на десерт. Эла смотрела в тарелку и отчаянно хотела кусок шоколадного торта. Но это потом, главное спросить и выйти на воздух.
— Ну, как у тебя дела?
Это был ритуальный вопрос. Отвечать на него откровенно не следовало:
— Уволилась. Невозможно было уже.
Но оправдания приняты не были:
— Что ж. Ты хотела уволиться? Ты уволилась. Что теперь говорить.
Каждая фраза — как гвоздь, вбитый в гроб непутевой дочери. Прикрыла глаза, выдохнула, отпилила кусочек вареного теста на тарелке:
— Взяла отпуск. Съездила в Чахтице.
— Зачем? — Агнешка, оказывается, сегодня настроена довольно воинственно. Но с Элой она не говорит, потому обращается к матери. — Что за странная идея таскаться в Чахтице. Там и летом-то жутко.
— Но она же не спросила нас? Она всегда хотела жить своим умом, — отвечала младшей пани Криста. И транслировала для Элы. — Ты же всегда хотела жить своим умом, да?
— Да. А надо чьим-то другим?
— Ты почему разговариваешь с матерью таким тоном? Ты за этим приехала, мне дерзить? Рассказать, что мы снова должны тебя содержать? Ты бросила работу? Ты опять больна?
— Мама, я не больна. И последние семь лет содержу себя сама.
И вас частично тоже, но упоминать об этом моветон, конечно же.
— Но тогда-то ведь не могла?
— Не могла.
— Значит, и снова не сможешь. И куда денешься? Только к нам и придешь. Больше у тебя никого нет. А у меня Агнешка, у нее нервы. И дети, у Агнешки дети. Могла бы подумать об этом теперь, о нас, раз ты бросила работу. Самый подходящий момент, чтоб избавиться от рухляди.
— Так, я не хочу этого слышать! — Агнешка встала из-за стола, вышла прочь.
Спина ее, и та выражала неодобрение. Томаш подожрал сливы из кнедликов и был таков, Эва не замечала сторонний шум, уткнувшись в смартфон. Эва не от мира сего. Эву было немного жаль, ее она хоть как-то любила, вероятно, в память маленькой девочки, которую нянчила, когда не лежала лицом к стене. Тогда отвлечение на хнычущую двухлетку тоже спасало, как те гири, прижимаемые к груди. Но даже ради Эвы…
— Я не буду продавать дом. Помимо того, что просто не хочу, жить в своем всяко дешевле, чем в съемном.
— Так и начинай с того, что просто не хочешь. А могла бы подумать, да. Подумать о нас! Но нет, где тебе, ты же всю жизнь считала себя лучше всех. Ты же особенная, как же! И бабка… уж я говорила, но она только потакала твоей мании. Ты всегда считала себя выше нас, а ты такая же, ничем не лучше, ты нас бросила, когда сестра ухаживала за ней, а дом получила опять ты. Не я, не она, но ты!
— Вы же хоронили ее на мои деньги.
— Это неважно, ты нам еще должна. Должна хотя бы теперь подумать.
— За что ты ее так ненавидела?
— Ненавидела? Я?! Не говори ерунды.
— Ты даже проститься мне с нею не дала. Я же спрашивала! Я же хотела приехать!
— Я говорила. Говорила, что мы вызываем врача третий раз за вечер… Ты не приехала. А что бы ты сделала, если б и приехала, а? А я тебя спасла. Знала бы ты, от чего я тебя, дуру, спасла…
— От чего?
— Сказать бы, а все жалеешь тебя, жалеешь, да видно, зря. Ни сердца в тебе, ни совести. И благодарности никакой. Одни мужики на уме, ни работы нормальной вот опять, ни семьи. Родить — и то не смогла.
Родить не смогла. Зачем рожать, если не можешь любить ребенка? Почему пани Криста не сделала аборт, впервые забеременев? Эла, по крайней мере, не повторила материнской ошибки. После чего уже и впрямь не смогла родить, и пани Криста считала это справедливой Господней волей в адрес блудной дочери.
— Не смогла, — отвечала ровно, — зато Агнешка у тебя молодец. Зачем вы поменяли фотографию?
— Какую?
— Ту, на ее могиле.
Повисла короткая пауза.
— Я ничего не меняла, — пани Криста бросила вдруг испуганный взгляд на внучку, поглощенную смартфоном, потом на старшую дочь. — Тебе лучше уйти.
— Что бабушка говорила перед уходом?
— Ни о чем. Не вспоминала тебя.
— О чем она говорила?
— Она говорила о… стрекозах.
Пани Малгожата насмешливо взирала на семью с портрета на стене, вот уже восемь лет перетянутого черной ленточкой. Материнское лицо изменилось мгновенно и странно, но Эла все же задала вопрос снова:
— Зачем вы сделали это?
— Тебе лучше уйти.
Профессия дает массу преимуществ. И первое