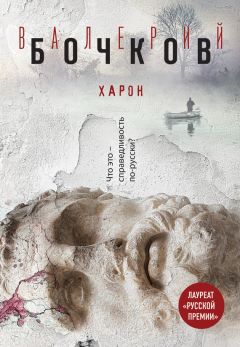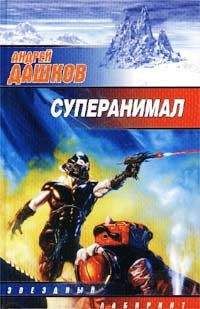деревянной лестнице со второго на третий этаж, кружит по коридорам и представляет, как будто бабушка ходит тут с ней, крепко держит за руку сухими горячими пальцами; она сейчас не боится, что Маша сбежит, как иногда убегала, вырвавшись, в парке, а просто очень соскучилась. Бабушка любит Машу. Держат, – вдруг понимает Маша, – не только от страха. От любви тоже можно так крепко держать.
Маша рада, что бабушка рядом, потому что сама тоже немножко соскучилась, хотя жить у тёти Арины так интересно, что глупо о ком-то скучать. Но самое главное, пока бабушка тут гуляет, ей хорошо и не страшно, у неё даже дома, на старом красном диване, ничего не болит.
«Шии-клисс!» – слышит Маша, не ушами, как всё остальное, а чем-то ещё – животом? деревянной половицей? окном? или солнцем, которое там, на улице светит? Ладно, неважно, главное, слышит. И понимает. И говорит воображаемой бабушке: «Ты не бойся, что скоро умрёшь. После смерти интересно и здорово, как играть в незнакомом дворе. А ещё там есть одно хорошее место, как сад тёти Люды, но больше в тысячу раз, тебе точно понравится. Я знаю туда дорогу, расскажу, и ты сразу её найдёшь».
Вообще-то Маша такие вещи взрослым не говорит, не потому, что страшная тайна, просто они всё равно не поймут, только зря лишний раз испугаются, или просто поднимут на смех. Но воображаемой бабушке можно, она очень внимательно слушает и верит каждому слову. И никому не расскажет: та, которая дома лежит на диване, не может уже говорить.
Третий ход
Маше тринадцать лет, Маша лежит в больнице; то есть, она как раз не лежит, а ходит по коридорам, особенно по ночам. Иногда ей удаётся проскользнуть мимо нянечек и выйти в больничный двор, где растут деревья, рядом с ними Маше всегда хорошо. Когда она устаёт ходить, сидит с книжкой на стуле, потому что лежать сейчас – хуже всего, неудобно и больно, у неё перелом ключицы, такой сложный, что сделали операцию и практически на всё туловище намотали неудобный тяжёлый гипс; ладно, не страшно, ключица ещё болит, но уже заживает, доктора обещали отпустить послезавтра домой. Скорей бы, – думает Маша, слоняясь по отделению хирургии, сегодня дежурная нянечка строгая, мимо неё во двор не пройти.
Маше трудно, она ошеломлена и раздавлена своим недавним открытием: какая, оказывается, бывает сильная боль. Сама настрадалась, пока перелом пытались вправить без хирургического вмешательства, и потом, после операции, когда прошёл наркоз, а обезболивающего до ночи не дали; короче, жуть. Но бывает гораздо хуже, Маша тут на всякое насмотрелась и криков, и воя наслушалась, и натерпелась чужих ощущений, когда ночами бродила по коридорам, потому что невозможно лежать. Словом, Маша теперь на опыте знает, какой сильной бывает боль, и как долго она может тянуться, и как её в мире много, на всех хватает, никто не избежит. Это даже не то чтобы страшно, – думает Маша, пока идёт по больничному коридору, – это неправильно, невыносимо, так не должно быть, с людьми так нельзя.
«Шии-суу!» – слышит Маша звук, похожий на птичий свист, не ушами, а телом, особенно правой ключицей, тем местом, где уже понемногу срастается кость, но от звука в ключице ей не больно, а сладко, словно кто-то ласково гладит; «шии-суу», – понимает Маша, – это звук, от которого боль проходит, главное теперь его не забыть. Надо мне тоже так научиться, прямо сейчас и попробовать, только где? – думает Маша и оглядывается по сторонам. Никого в коридоре нет, а в подсобке, где уборщицы хранят вёдра и тряпки, слегка приоткрыта дверь, поздно вечером уборщицы не работают, значит можно там спрятаться и потренироваться высвистывать: «шии-суу».
Час спустя Маша выходит из тёмной подсобки, она очень довольна собой, потому что свист получился практически сразу, и он действительно убирает боль. Может быть, даже лечит, по крайней мере, Маше сейчас кажется, что она совершенно здорова, только мешает дурацкий тяжёлый гипс. Интересно, – думает Маша, – а на других свист подействует? Надо попробовать.
Почти до рассвета, пока ноги держат, Маша бродит по коридорам хирургического отделения детской больницы и тихонько свистит. Она не узнает – врачи пациентам о своих делах не рассказывают – что эта ночь оказалась на редкость спокойной, все больные спали так крепко и сладко, что утром во время обхода их едва смогли разбудить. Но Маша и так, в общем, знает, что у неё получилось. Ну или чувствует. Да какая разница, как это называть.
Свист «шии-суу» Маша запомнит, конечно. Никому никогда не расскажет, как про такое рассказывать, какими словами, да и зачем? Но применять его будет часто, потому что боли в человеческом мире действительно слишком много, рано или поздно достанется всем.
Четвёртый ход
Маше шестнадцать, она почти закончила школу, осталось сдать выпускные, и всё. Маша от этого не в восторге. Школу она не особо любит, но уже успела понять, что быть взрослой даже хуже, чем школьницей. Из возможного ей ничего особо не хочется – ни работать, ни замуж, ни куда-нибудь поступать. Хочется невозможного, – думает Маша, сидя на цветущем майском лугу, который начинается сразу за родительской дачей. – Чего-нибудь такого прекрасного, чего я сама заранее не представлю, не сочиню.
Маша ложится в траву и вдруг начинает плакать, чего с ней не было, кажется, лет с пяти. Ничего ужасного не случилось, никто её не обидел, Маше не страшно идти на работу, или поступать в институт. Просто очень жалко чего-то ей самой непонятного. Удивительной, чудесной, небывалой, невозможной судьбы.
Маша плачет и слышит – не ушами, а телом, почему-то особенно горлом долгий, певучий, одновременно высокий и низкий, переливчатый звук: «Шии-лэ». От этого звука Маше становится так хорошо, так безмятежно и сладко, что теперь она плачет уже от счастья. И повторяет вслух, то есть, поёт во весь голос, внезапно ставший сильным, глубоким, объёмным, одновременно высоким и низким, перламутровым, огненным – «Шии-лэ».
Маша сидит на цветущем майском лугу, плачет от счастья и поёт, повторяя за тайным, никому, кроме неё не слышным голосом: «Шии-лэ», – а потом уже просто знакомые песни и арии, всё подряд, что удаётся вспомнить, думает: «Господи, я же так раньше не пела, слух всегда был идеальный, а голос слабенький, даже в обязательном хоре при музыкалке только бормотала под нос. А теперь о-го-го как пою! Вот бы так и осталось! Вот бы не разучиться! Я на всё на свете согласна, если всю жизнь будет можно так петь!»
Пятый ход
Маше двадцать, она студентка