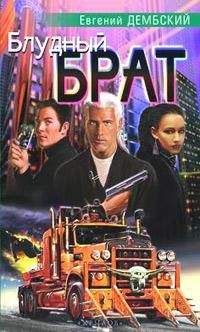Евгений ДЕМБСКИЙ
БЛУДНЫЙ БРАТ
Спросите кого угодно, знает ли он, что такое тяжелые времена, и можете мне поверить — на вас хлынет поток наводящих ужас воспоминаний, даже если ваш собеседник никогда не отличался особой болтливостью. Тем не менее постараюсь быть кратким.
Во-первых, Феба начала щениться в два часа ночи и, вместо того чтобы разбудить кого надо, подняла с постели Фила, а тот, охваченный паникой, кинулся ко мне, в своей обычной манере задавая множество вопросов. Когда наконец мы вместе с ветеринаром успешно приняли роды, когда три щенка — и что теперь с ними делать? — начали сосать мать, а Фила удалось придавить одеялом и усыпить, оказалось, что мой собственный сон поджал хвост и отправился на отдых, оставив хозяина наедине с наступающим долгим днем.
Во-вторых, я решил наконец забрать из «дружественной» автомастерской свой «бастаад». Оказалось, что машину действительно перебрали и наладили, но кому-то пришло в голову сменить лак на покрытие-хамелеон.
— Можете, — сказал Джагер, — управлять окраской, как вам только захочется. Только не забывайте, когда оставляете машину на солнце, фиксировать цвет. Дело в том, что под влиянием тепла солнечных лучей он может самопроизвольно меняться.
Оказалось, что он знал, что говорил. Выйдя час спустя из конторы Мейсона, я пережил тяжелый удар. Мой чудесный «бастаад» за время моего отсутствия сменил цвет на ярко-розовый, а я не сумел вспомнить, как вернуть ему прежний вид, и пришлось возвращаться домой, выбирая самые прохладные и тенистые улицы и молясь о том, чтобы цвет как можно быстрее изменился. Но прежде чем это произошло, несколько педиков в своих живописных автомобильчиках пытались сесть мне на хвост, явно воспылав ко мне горячей любовью и желая договориться о свидании.
Около десяти вечера меня снова начало клонить ко сну, я быстро разделся и прыгнул в постель, однако уже через пятнадцать минут понял, что торопиться не следовало. Одному из сыночков Фебы стало хуже, Пима бесцеремонно вышвырнула мой сон за окно — у меня мелькнула мысль, что сон может обидеться и с этих пор обходить наш дом за милю. Она вызвала доктора Фрезера, и до четырех утра мы пытались сохранить жизнь одному из двух кобельков. Увы, он сдох. До восьми мы успокаивали Фила, и пока нам не пришла в голову идея оставить у себя остальных щенков, кобелька и сучку, мой сын рыдал так, что мы не успевали менять пижамы, наши и его.
В половине девятого утра я спустился вниз, причем мне казалось, будто лестница делает все возможное, чтобы все могли наконец увидеть, как Оуэн Йитс кувыркается по ступеням до самого пола гостиной. Однако мне в очередной раз удалось уцелеть. Помню, я подошел к бару и долго пытался найти что-нибудь, что позволило бы мне пережить еще один долгий день, но кислородный баллон остался в гараже, а все препараты, служившие для поддержания едва теплившейся во мне жизни, Пима несколько недель назад выбросила в утилизатор. Я понял, что еще немного, и со мной будет покончено, на радость моим врагам. Каким-то образом я сумел растворить в килограмме кофе несколько капель воды и влить в себя около литра получившейся смеси. Когда через час мне удалось попасть в дверь ванной и отыскать взглядом зеркало, я понял,
почему окружающий мир приобрел пурпурный оттенок — сквозь окрашенные в свекольный цвет глазные яблоки он и не мог выглядеть иначе. Остальной части дня я не помню, за исключением того, что тот тащился еле-еле, словно на годами не смазываемых подшипниках. Нет, еще помню, как позвонил мой любимый агент, чтобы сообщить мне, что я в очередной раз не попал даже в номинацию на «Каракатицу».
— Ну и ладно, им же хуже, — утешил он меня.
— Конечно, меня же любят миллиарды…
— Погоди, что это ты сегодня такой беспокойный?
— Ошибаешься, я вполне спокоен. «Каракатица» — последняя премия в году, так что я могу не волноваться до следующего года…
— А мне что делать? — заорал он в трубку.
— Не знаю… нет — знаю: застрели Падрони, застрели Мэтьюса, застрели Эртфилда, застрели Крейфиша и еще парочку. Я задушу остальных, и на Земле останутся лишь поклонники Йитса: я, ты и… и… Можешь быстро кого-нибудь еще вспомнить?
Он бросил трубку. Я почувствовал себя окончательно разбитым, несколько попыток подойти к бару закончились позорным бегством. Пима беспокоилась, а я умирал. В конце концов, однако, должен был наступить вечер, и он наступил, доставив мне этим неподдельную радость.
И тогда явился этот тип.
Я сидел в кресле, с нетерпением ожидая прихода темноты, а вместе с ней — сна, и то и дело поглядывал в сторону бара, обещая нанести ему краткий визит, после которого собирался нырнуть в постель, когда кто-то вошел в калитку и бесцеремонно ткнул кнопку звонка. Обливаясь потом, я молился, чтобы мелодичный сигнал оказался исключительно плодом моего перетрудившегося воображения. Но нет — звонок раздался снова и сразу же после — еще раз, третий. Мир стучался в мои двери, не обращая внимания на то, что я…
— Оуэн?! Открой, я меняю Фебе подстилку! — крикнула сверху Пима.
Притворяться, что нас нет дома, больше было нельзя. Я как можно быстрее двинулся к двери и уже минут через пятнадцать открыл ее. На пороге стоял совершенно незнакомый мне человек.
— Прошу прощения, я имею честь говорить с мистером Оуэном Йитсом?
Я едва удержался от своего любимого способа заводить знакомства — пинка в промежность.
— Да, это я.
— Впрочем, я зря спрашиваю, ваше лицо мне прекрасно известно. Я хотел бы попросить вас уделить мне несколько минут…
— Прежде чем я соглашусь, я хотел бы пояснить, что больше не занимаюсь расследованиями. Я вполне доволен своим агентом и не намерен его менять. («Радуйся, чертов кровопийца!» — подумал я.) Кроме того, мой дом оборудован всем, что может предложить наша промышленность и что может на столь небольшом пространстве поместиться. Так что говорить нам не о чем, если ваша просьба касается какого-либо из этих трех вопросов. Впрочем, и по поводу любых прочих.
Сквозь кровавый туман перед глазами я увидел, что он ритмично открывает и закрывает рот. Сперва мне показалось, что ему не хватает воздуха, лишь через несколько секунд я понял, что он пытается вклиниться в мой монолог, и — сам не знаю почему — дал ему шанс. Что поделаешь, в конце концов, я очень устал.
— Нет-нет-нет! — тотчас же воспользовался он моими великодушием и слабостью. — Мой визит касается вашего творчества.
Он ударил в самое чувствительное из всех возможных мест. Несколько мгновений я стоял, пытаясь не осесть вдоль дверного косяка, затем отступил на шаг и показал ему рукой на гостиную.