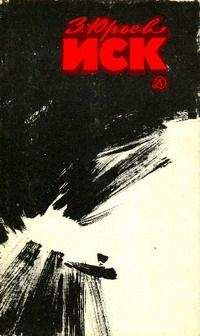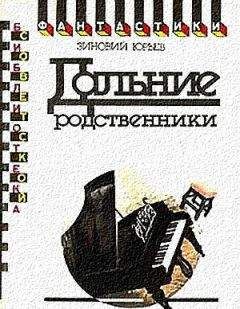Сквозь реденькие седые волосы врача просвечивала розовая кожица скальпа. Он сидел, наклонив голову, и что-то писал. Мне вдруг почудилось, что он боится посмотреть на меня, и тут же, откуда-то снизу, во мне начала подниматься волна липкого страха. Он обволакивал желудок, сердце, легкие, пока все мое нутро не всколыхнулось тоскливым животным ужасом. В кабинете вдруг стало холодно, и меня начал бить озноб.
Я несколько раз глубоко и прерывисто вздохнул. Мне казалось, что глоток кислорода должен если не смыть, то хоть немного растворить дрожавшую внутри меня пустоту. Но страх не уходил. У страха, наверное, своя интуиция, своя логика, своя воля.
Пауза бесконечно растягивалась, раздувалась, как мыльный пузырь. Только стенки его не переливались детской праздничной радугой. Мыльные пузыри! Как я любил пускать их когда-то, до нашей эры…
Наконец врач медленно начал поднимать голову. Ах, какой это был труд! И сколько вещей отвлекало его! Например, ногти, которые он разглядывал так, будто видел в первый раз; бумаги и книги, вдруг потребовавшие срочной перекладки; галстук, и так завязанный идеальный узлом. На мгновение мне стало жаль старика: сколько же он тратит душевных и физических сил, чтобы только не посмотреть мне в глаза! Он громко вздохнул. Вздох был вовсе не докторский, не профессорский, не профессиональный, а какой-то беспомощный, похожий на те мои вздохи, которыми я только что пытался растворить склеивавший меня страх. Доктор долго растирал руки, обтянутые коричневым пергаментом, собираясь с силами.
— Боюсь, — наконец выдавил он из себя, — что дела наши не очень хороши…
Я молчал. Он неплохо подготовил меня к худшему тягостным, безнадежным молчанием и вздохами. И все равно трепетавший во мне страх мгновенно уплотнился: я одеревенел. Я хотел что-то спросить, но не мог. Я хотел вдохнуть, но мышцы не повиновались мне.
— Может быть, если бы вы не пропустили прошлое обследование, — еще раз вздохнул профессор Трампелл, — может быть…
— А если без условных наклонений? — неожиданно послышался чей-то хриплый голос, и я не сразу понял, что он принадлежит мне.
Профессор собрался с духом и посмотрел на меня. В стариковских светло-водянистых глазах клубилось не то сострадание, не то испуг. Усилие, должно быть, заставило его еще раз вздохнуть, и он отвел взгляд.
— Без условных наклонений? — задумчиво переспросил он и несколько раз кивнул. Не то себе, не то мне. — Мне скоро семьдесят, дорогой мистер Карсон, а я так и не привык спокойно выносить приговоры. Покойный отец почему-то мечтал, чтобы я стал судьей. Он и сам был судьей. Я, как сейчас, вижу его: всегда одетый в черный костюм, всегда серьезный. Почти торжественный. Мне кажется, даже во сне он сохранял это выражение серьезной торжественности. Он считал свою профессию самой лучшей в мире. Он не мог понять, как это я решил стать врачом. Кто знает, наверное, он был прав… Может быть, я прожил бы более спокойную жизнь и вынес бы меньше приговоров…
— Я не совсем понимаю, кого жалеть: вас или себя, — довольно резко сказал я. — И к тому же — осужденный имеет право хоть знать приговор. И в суде и здесь.
— Да, да, простите, — как-то виновато встрепенулся профессор. — Я не должен ничего скрывать от вас. — Он снова опустил голову. — Рак легкого…
— Лечение? — спросил я чужим голосом.
Легкие седые волосы едва заметно заколебались над розовой детской кожицей.
— Увы… слишком поздно…
— Сколько у меня времени? — спросил я и какой-то частью сознания, сохранившей способность наблюдать и анализировать происходившее, подивился деловитости тона. — На сколько я могу оставить здесь машину? Сколько я вам должен? Сколько мне осталось жить?
Профессор выпятил сизую полную нижнюю губу и тут же начал медленно ее всасывать, словно боялся потерять ее.
— Три месяца, может быть, четыре… Поверьте, я бы хотел…
— Скажите, профессор, ошибки не может быть? Я ведь чувствую себя вовсе недурно. — Неожиданно я почувствовал надежду. Крошечную, хрупкую. Но тем яростнее я вцепился в нее. Ну конечно же, это ошибка. Страшная, нелепая ошибка. Ну, признайся, старый палач, что ошибся, и я прощу тебе муки осужденного. Ну, смелее, смелее, признайся, не томи меня, старик, молил я его, признайся.
Мне показалось, что профессор вздрогнул и пожал плечами.
— К несчастью, все анализы и томограммы не оставляют ни малейшего сомнения… А самочувствие… Оно бывает так обманчиво и коварно. Иногда словно специально для того, чтобы усыпить бдительность. Боюсь, это не надолго… Как только почувствуете себя хуже, позвоните мне.
— А операция? Неужели нет никаких новейших лекарств? — спросил я. Надежды уже не было, и я произносил пустые, жалкие слова только для того, чтобы не задохнуться от животного ужаса.
Профессор печально покачал головой.
— Увы, мистер Карсон, поздно. Поверьте, я…
— Спасибо, доктор, — сказал я и вышел из кабинета.
Прямо на меня по коридору шла молоденькая сестра. Светлозеленый халатик удивительно гармонировал с ее глазами точно такого же цвета. Она улыбнулась мне снисходительно и победоносно, как улыбаются молоденькие красивые девушки не очень молодым мужчинам.
Я улыбнулся ей в ответ. Я понимал, что не мог улыбнуться, выслушав только что окончательный приговор. Но наверное, инстинкты еще жили прежней жизнью, они еще не усвоили, что улыбки кончились для меня навсегда. Как и все остальное. Навсегда. Ужасающее, если вдуматься, слово. Нелепое, бессмысленное, тупое и жестокое. Как это навсегда? Я не хотел принимать эту мысль, во мне не было смирения. Как это навсегда? Почему это должно было случиться со мной? Почему? Почему из-за каких-то дрянных рехнувшихся клеток я должен осознавать, что все кончается для меня. Навсегда.
Я медленно вышел на улицу. Февральский ветерок лениво закручивал над асфальтом снежные буранчики, и, обессиленные, они тут же бесшумно опускались на тротуары и мостовую. Я понимал, что ничего не изменилось за последний час: люди улыбались, ссорились, спешили по своим делам. Земля продолжала бесшумно вращаться вокруг своей оси. Плывя одновременно по орбите вокруг Солнца. Изменилось лишь мое восприятие мира. Он казался мне теперь неизъяснимо прекрасным, от легкого морозца до угрюмой старухи с пластиковой сумкой, которая в этот момент проходила мимо. Старуха исподлобья посмотрела на меня, и во взгляде ее мне почудилось сострадание. Как, как я мог прожить жизнь, не замечая всей изумительности мира? Как мог позволить себе огорчаться из-за всяческих пустяков, вместо того чтобы упиваться каждым мгновением пребывания в этой невозможной красоте, от которой у меня на глазах наворачивались слезы?