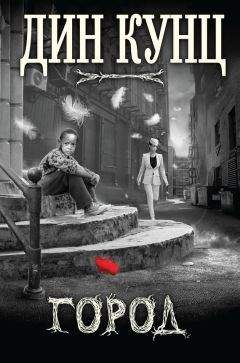Тилтон выскочил через парадную дверь с такой скоростью, будто дом ожил и дал ему увесистого пинка. На крыльце один из чемоданов, которым при спуске крепко досталось, раскрылся, и Тилтон принялся торопливо подбирать вывалившиеся вещи и укладывать обратно. Мать наблюдала через окно у двери, а когда он собрал все и ушел, фыркнула: «Чувство любви, это ж надо!» – повернулась и, к своему удивлению, увидела бедного мистера Иошиоку, который так и стоял, прижавшись спиной к почтовым ящикам.
Он улыбнулся, кивнул.
– Теперь я хотел бы подняться.
– Извините, что так получилось, мистер Иошиока.
– Виноват только я, – ответил он и начал подниматься, перескакивая через ступеньку.
Так все произошло по версии матери, которой она поделилась со мной много лет спустя. Я после школы пошел в общественный центр, чтобы поиграть на пианино. Когда вернулся, она мне сказала: «Твой отец тут больше не живет. Он поднимался наверх, чтобы помочь мисс Делвейн с описанием родео, а я такого не потерплю».
Слишком юный, чтобы понять истинное значение ее слов, я очень заинтересовался механической лошадью и надеялся, что мне удастся ее увидеть. Сжатое объяснение матери не удовлетворило мое любопытство. Вопросов у меня хватало, но я не задал ни одного. По правде говоря, порадовался тому, что мне больше не придется сидеть в баре и выслушивать истории, которыми отец обменивался со случайными знакомыми. И я не пытался скрыть своей радости.
Тут же поделился с мамой секретом, который не мог открыть, пока Тилтон жил с нами: я уже больше двух месяцев брал уроки игры на пианино у миссис О’Тул. Мама меня обняла, расплакалась и извинилась, но я не понял, за что она извиняется. Мама сказала, это не важно, понял я или нет, главное, что она больше никому не позволит встать между мной и фортепьяно или мной и еще какой-то моей мечтой.
– Слушай, сладенький, давай отпразднуем нашу свободу кока-колой.
Мы сели за кухонный стол, чокнулись стаканами «кока-колы» и закусили ломтиками шоколадного торта перед обедом, и на все последующие годы событие это осталось в моей памяти одним из самых ярких. Мама уже перешла из «Сути дела» в «Слинкис», но в этот вечер она не выступала, а потому провела его со мной. Мы с ней о многом переговорили, в том числе и о «Битлз», которые в прошлом году раньше ворвались в хит-парады США с песнями «Я хочу держать тебя за руку», «Она любит тебя» и тремя другими. Уже в 1965 году еще две их песни поднимались на первую строчку хит-парадов. Маме нравились «Битлз», но она говорила, что ее любовь – джаз, особенно свинг, и переключилась на знаменитых солисток больших оркестров времен дедушки Тедди. Она знала все их песни, могла имитировать многих, и казалось, что все они здесь, на нашей кухне. Она показала мне книгу о том времени, с фотографиями всех этих женщин. Кэй Дэвис[10] и Мария Эллингтон[11], которая пела с Дюком. Билли Холидей с Бейси. Все симпатичные, некоторые – красавицы. Сара Вон, Хелен Форрест[12], Дорис Дэй, Харриет Кларк, Лена Хорн, Марта Тилтон[13], Пегги Ли. Возможно, самой красивой из них я посчитал Дейл Эванс[14], когда ей было за двадцать, та самая, которая потом вышла замуж за поющего ковбоя Роя Роджерса, но даже в молодости Дейл Эванс не могла сравниться красотой с Сильвией Бледсоу Керк. И моя мама могла превзойти Эллу. Когда дело доходило до скэта[15], создавалось полное впечатление, что это Элла и вас просто обманывают глаза. Мы съели кэмпбелловский томатный суп и сэндвичи с сыром, поиграли в рами-500. Прошли годы, прежде чем я осознал, что в этот день жизнь мамы в третий раз покатилась под откос, но тогда я все видел иначе. Когда пошел спать, думал, что на тот момент это был лучший день в моей жизни.
Но следующий оказался еще лучше, один из тех дней, которые мой друг Малколм называет намазанными маслом. Беда уже надвигалась, естественно, куда мы без беды, но пока я мог идти по жизни с улыбкой.
8
Намазанный маслом день…
Давайте сделаем маленькое отступление ради Малколма Померанца. Он первоклассный музыкант. Играет на тенор-саксофоне. Гений, который и в пятьдесят девять может сыграть весь целотонный ряд.
Он еще и сумасшедший, но совершенно безобидный. Он также суеверный. Скорее сломает себе спину, чем разобьет зеркало. И хотя он не настолько обсессивно-компульсивный, чтобы несколько часов в неделю проводить на кушетке мозгоправа, некоторые ритуалы Малколма могут вывести из себя, если ты его не любишь.
Во-первых, он должен вымыть руки пять раз – не четыре и не шесть, – прежде чем присоединиться к оркестру на сцене. А после того, как его проворные пальчики становятся достаточно чистыми, чтобы играть, голыми руками он не прикасается ни к чему, кроме саксофона, а если прикоснется, ему приходится снова мыть руки пять раз. Такая чистота рук не нужна ему на репетициях – только при выступлениях. Не будь он таким прекрасным музыкантом и обаятельным человеком – не сделал бы карьеру.
Малколм читает газету каждый день, за исключением вторника. Он не покупает вторничную газету и не занимает ее у соседа. По вторникам не смотрит новостные выпуски и не слушает радио. Он уверен: если посмеет ознакомиться с новостями в любой вторник, сердце его превратится в пыль.
Он не ест грибы, ни сырыми, ни приготовленными, ни в соусе, хотя грибы любит. Не ест закругленные булочки, которые напоминают ему грибную шляпку. В супермаркете не заходит в ту часть отдела овощей и фруктов, где продаются грибы. А если супермаркет для него новый, вообще не заходит в отдел овощей и фруктов из страха, что внезапно столкнется с грибами.
Что же касается намазанного маслом дня… Каждое утро он готовит на завтрак один лишний тост, кладет на кухонный стол, а потом небрежно сбрасывает на пол. Если тост падает маслом вверх, Малколм с удовольствием его съедает, в полной уверенности, что день будет хорошим от начала и до конца. Если тост падает маслом вниз, Малколм его выбрасывает, масло вытирает и весь день держится настороже, высматривая потенциальную опасность.
В первый вечер полнолуния Малколм идет в ближайшую католическую церковь, опускает семнадцать долларов в ящик для пожертвований, зажигает семнадцать свечей в стаканчике. Заявляет, что не знает, почему он это делает. Мол, свойственный ему ритуал, такой же, как все остальные. Я склонен думать, что причину он и впрямь не знает, что семнадцать свечей позволяют ему держать внутреннюю боль в узде, а если он позволит себе осознать мотив, боль эта выйдет из-под контроля. У большинства из нас нанесенные жизнью раны заживают медленно, и мы остаемся лишь со шрамами, но, возможно, Малколм слишком чувствительный, чтобы позволить этим ранам полностью затянуться: может, его обсессивно-компульсивные маленькие ритуалы – повязки, которые оставляют раны чистыми и препятствуют кровотечению.