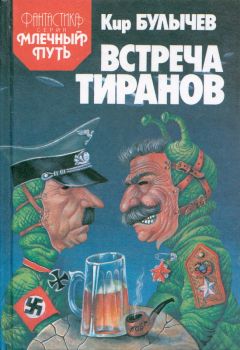Я поспешила к Сесе, пока не началась новая буря. Воздух был тяжелый, и я сразу запыхалась, пришлось перейти на шаг. Сесе жил в трех кварталах, рядом со школой, у него свой маленький дом — это дом его отца, который когда-то был директором нашей школы, но умер.
У дома я встретила Шуру Окуневу, старшую сестру Даши. Она спросила, не видела ли я ее Петьку. Петька убежал на улицу, а она волнуется. Я сказала, что не видела. И спросила: Сесе дома? Это был глупый вопрос.
— Ты что, не знаешь? — спросила Шура. — У него же орор, может, он помер.
— А ты к нему не ходила?
— Ты что! У меня ребенок. Мне бы его сохранить.
— Я к нему пойду.
— Олька, — сказала Шура убежденно. — Нельзя. Он все равно что умер. А это верное заражение, ты у любого спроси — сегодня орор хуже чумы.
— Я пойду.
— Тогда больше ко мне не подходи и вообще к людям не подходи! — закричала Шура.
Я понимала, что она психует: в такие дни иметь ребенка — это вдвое хуже.
Шурка побежала дальше, крича своего Петьку, а я пошла к Сесе.
Дверь к нему была открыта.
Я спросила, есть ли кто дома.
Сесе не ответил, и я вошла.
Он был совсем плохой. Страшно худой — скелет, а на лице и на руках красные пятна. Руки покорно лежат на одеяле, и сам он покорный.
Он увидел меня — глаза расширились.
— Здравствуйте, — сказала я, — я пришла, может, надо что?
— Не подходи, Николаева, — сказал он. — Нельзя.
— Ничего, — сказала я, но осталась стоять у двери. Я даже не подозревала, что человек может так измениться. Я понимала, что он скоро умрет.
На столике стоял пустой стакан.
— Вы пить хотите? — спросила я, чтобы не стоять просто так.
— Не надо.
Я прошла к кровати, взяла стакан и пошла на кухню. На кухне было запустение, но кто-то здесь недавно был. Значит, кто-то ходит. А я боялась.
У плиты стоял газовый баллон, и в нем еще оставался газ. Я включила его, поставила чайник, достала сахар. Вернулась к Сесе.
— Вот видишь, — тихо сказал Сесе. — Не повезло.
— Ничего, — сказала я, — вы еще поправитесь.
— Спасибо.
— А кто к вам приходит?
— Ты не знаешь?
— Нет.
— Холмов.
— Холмик? А мне он ничего не сказал.
— Это опасно. Вы, ребята, не понимаете, как опасно.
— Все очень опасно, — сказала я серьезно. — Потому что меняются люди.
— А как там Огоньки? — спросил Сесе.
— Вчера новый родился за нашим домом, — сказала я. — Совсем маленький.
Он закрыл глаза, потому что ему трудно было говорить.
— Я буду у мамы в больнице, возьму лекарств.
— Не надо, — еле слышно сказал Сесе, — они нужны живым.
Чайник закипел, я сделала сладкий напиток. Потом напоила его.
Сесе не разрешал, но он был такой слабый, почти невесомый, и я его все равно напоила. Мне было бы стыдно этого не сделать. Он немного попил, но больше не смог. Он закрыл глаза, а я ему что-то хотела сказать и никак не могла придумать что.
И я сказала ему, как я его люблю, как я всегда его любила, потому что он самый красивый и умный. Еще с седьмого класса любила. Он вдруг начал плакать — только слезами, лицо было неподвижно. Он велел мне уйти.
На улице меня поймал такой ливень, какого я еще не знала.
Было темно, как глубокой ночью, и я даже заблудилась. Я шла и все время натыкалась на стены. Я плохо соображала. Но тут я увидела наш Огонек. Я добралась до угла дома, стояла там и смотрела на Огонек с ненавистью, как будто он был виноват в болезни Сесе.
Было все еще темно, но дождь вдруг ослаб. Я поглядела на железный столбик — и увидела, что край Огонька не достает до него. А маленький Огонек не увеличился.
Я стояла и глядела на Огонек, словно загипнотизированная. Не знаю, сколько простояла. И тут услышала далекий крик. Почти сразу большой Огонек съежился, а второй, малыш, мигнул и исчез.
Я обрадовалась. Значит, правда они могут исчезать.
Потом забежала домой, взяла сумку и пошла в больницу.
По дороге встретила Шурку Окуневу.
Она поднималась от реки, еле живая, словно ее палками побили. Она тащила на руках Петьку — Петьке уже шесть лет, тяжелый, она запыхалась. Увидела меня и начала кричать, словно я была виновата.
— Я же звала! — кричала она. — Я же звала — и никого!
— Нашла? — спросила я. — Вот и хорошо.
— Ты не понимаешь. Холмик утонул! Он моего Петьку вытащил, а его унесло! Я сама видела!
— Где? — Я бросила сумку и побежала к реке.
Вслед кричала Шурка, потом она бежала за мной, она не замечала, что Петька тяжелый и мокрый, она все время повторяла:
— Я же не могла… Он за бревно держался, он Петьку вытолкнул, а река — ты же знаешь… Я Петьку тащила…
Река была вздувшейся, громадной, по ней неслись бревна, какие-то ящики… ни на берегу, ни в воде не было ни одного человека.
— Может, его выбросило на берег? — Я просто умоляла Шурку подтвердить, а она не смогла.
— Я видела — его голова там, на середине, появилась — и все…
Я взяла у нее Петьку, он устало плакал.
Мы по очереди несли его на косогор. Уже наверху я спросила:
— Ты кричала?
— Ой, как я кричала! — ответила Шурка.
Я отдала ей Петьку.
— Согрей его, — сказала я.
— Я кричала — и никого, — повторила Шурка и ушла.
И тогда я решила, что к маме пока не пойду. Мне нужно поговорить с кем-то серьезным, который захочет поверить.
Дошла до станции. Уж не помню как.
На станции были люди. Солдаты и дружинники вытаскивали из вагонов мешки. За путями, у стрелки горел Огонек.
Я увидела того лейтенанта, который говорил со мной вчера.
— Мне надо в Москву, — сказала я. — Обязательно. Может, я ошибаюсь. Но если я не ошибаюсь, тогда есть надежда.
— Поезда не ходят, — сказал он. — Ты же знаешь. И в Москве такие пожары…
— Тогда я вам скажу.
Его позвали, но он посмотрел мне в глаза и крикнул:
— Погоди, без меня!
А мне сказал:
— Говори, девочка.
И я ему сказала про совпадения. Про то, как увеличился Огонек, когда пришел Ким, про то, как он чуть-чуть уменьшился, когда я пришла от Сесе, как погас малыш, когда Холмик вытащил Петьку, а сам не смог выбраться из реки.
Мы с лейтенантом добрались до Москвы на его «газике».
И я все это повторила здесь.
Я знаю, что есть надежда. Никто раньше об этом не догадывался, потому что не искал связи между нами и Огоньками. Если нет надежды, ее надо искать там, где не искали.
Нет, я не смогу остаться здесь. Холмика нет, и некому даже напоить Сесе. Вы просто не представляете, какой он человек.
И мама, наверное, уже с ума сходит.