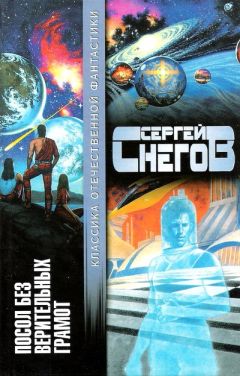— Я прочту балладу о дамах минувших времен, хорошо?
— Давай о минувших дамах, — согласился Жак. — Минувшие дамы — тоже неплохо.
Теперь снова был слышен один голос Вийона. Камеpa превратилась в нечто неопределенное и серое — Вийон, читая, закрывал глаза:
Где Элоиза, та, чьи дни
Прославил павший на колени
Пьер Абеляр из Сен-Дени?
Где Бланш, чей голос так сродни
Малиновке в кустах сирени?
Где Жанна, дева из Лорени,
В огне окончившая век?..
Мария! Где все эти тени?.
Увы! Где прошлогодний снег?
— Изрядно! — сказал Жак Одноглазый. — Просто слеза прошибает, так жалко погибших дам. Но я просил стихов повеселее, Франсуа. Помнишь, ты издевался над офицерами полицейской стражи, ну, и о прекрасной оружейнице замечательно... или о толстухе Марго. Что-нибудь поострее, Франсуа!..
— Тогда я прочитаю вам стихи, написанные во время поэтического состязания в Блуа при дворе герцога Карла Орлеанского. Он сам задал нам тему — доказывать недоказуемое, сам вместе с другими поэтами писал баллады, но я его переплюнул, и, кажется, ему это не понравилось.
От жажды умираю над ручьем.
Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.
Куда бы ни пошел, везде мой дом,
Чужбина мне — страна моя родная.
Я знаю все, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Что лебедицу вороном зовет.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду.
Нагой, как червь, пышнее всех господ.
Я всеми принят, изгнан отовсюду.
Голос Вийона сделал остановку. Камера ответила на остановку хохотом и восклицаниями:
— Вот это да! Ах же дает, стервец! Всеми принят, изгнан отовсюду — слышал, Жак? Нет, ты послушай — лебедицу вороном!.. И над ручьем, над ручьем — от жажды, ха-ха-ха! Франсуа, нет, для тебя и виселицы слишком уж мало! Говорю вам, он может, братцы, он может!
Когда шум стал затихать, Франсуа продолжал:
Я скуп и расточителен во всем.
Я жду и ничего не ожидаю.
Я нищ, и я кичусь своим добром.
Трещит мороз — я вижу розы мая.
Долина слез мне радостнее рая.
Зажгут костер — и дрожь меня берет,
Мне сердце отогреет только лед.
Запомню шутку я и вдруг забуду,
И для меня презрение — почет.
Я всеми принят, изгнан отовсюду...
Внезапно чтение прервалось, послышалось рыдание. Экран заполнило растерянное, безобразное лицо Жака Одноглазого.
— Франсуа, что с тобой? Проклятый Гарнье, это он тебя расстроил! Да успокойся же, успокойся!
— Никто не понимает, никто! — лепетал голос Вийона. — Я так несчастен, Жак! И вы тоже, даже вы!..
— Перестань плакать! Кто тебя не понимает? О чем ты говоришь, Франсуа? Ты говоришь о виселице, к которой тебя...
— Я говорю об этих стихах, что я в Блуа... Это ведь правда, Жак, здесь каждое слово правда! Я плакал, когда писал их, ибо ничего более искреннего о себе... А все смеются, всем кажется, что я острю. Вы хохотали, будьте вы прокляты все!
Жак хотел что-то сказать, но его оборвал грохот дверных запоров. В камеру вошел Гарнье.
— Франсуа, — сказал он, — парижский суд помиловал тебя, лысый мальчик. Суд заменяет тебе виселицу десятилетним изгнанием из Парижа. Можешь уходить на волю. По помни, что в душе я дружески скорблю о тебе, ибо выпускаю тебя не на радость, а в лапы мучительного умирания. Ты еще скажешь мне, Франсуа, я верю в твою честность, хоть ты пишешь неприличные стихи, которые не переживут тебя, ты еще воззовешь ко мне в сердце своем: «Друг мой Гарнье, ты прав, виселица была бы мне лучше жизни!..»
Камера потускнела, страстные импульсы мозга Вий-она, уже тысячу лет, постепенно ослабевая, мчавшиеся в галактическом пространстве, забивались шумами других излучений. На минуту показался древний Париж — темный переулочек, кривые дома, смыкавшиеся верхними этажами, золотарь с переполненной бочкой, распахнувший пасть в половину экрана: «Ах, Франсуа, ты ли это! Иди сюда, крошка, я тебя поцелую!» Еще на минуту запылали дрова в камине, пламя выхлестывалось наружу, оно то отдалялось, то близилось — Вийон, озябший, лез к огню и, обжигаемый, отскакивал. Затем и эти видения пропали. Больше никаких картин не возникало на экране. Рой выключил механизм.
— Неужели мы не разгадаем тайну его смерти? — сказал огорченный Генрих. — Сколько помню, гибель Вийона окутывает загадка.
— Давайте подведем итоги, — предложил Рой, игнорируя сетования брата. — Мне кажется, можно подискутировать и о результатах и о новых задачах.
Петр с пятого на десятое слушал, о чем говорили работники института. Его томило удивительное ощущение, он хотел разобраться в нем и уже собирался уходить, когда к нему обратился Рой:
— Разве тебя не интересуют наши предположения?
Петр заставил себя слушать внимательнее. Сотрудники института одобряли идею Генриха — искать излучения большой интенсивности, чтобы с их расшифровки начать знакомство с летописью давно умерших людей. Но этого мало. Надо усовершенствовать аппарат, чтобы читать любую волну, излученную любым человеческим мозгом. Выяснить и записать события жизни, мысли и чувства всех людей, живших когда-либо на Земле. Нет человека, от неандертальца до современника, чья жизнь не заслуживала бы изучения. То, что в прежние времена называлось наукой историей, — пока лишь каталог действий и дат отдельных выдающихся людей: сильных интеллектом ученых, инженеров, мастеров искусств и важных должностью полководцев и монархов. Их институт ныне покончит с таким унизительным обращением с людьми. Все самые простые станут равны великим. За время существования человечества на Земле жило около двухсот миллиардов человек. Составить двести миллиардов биографий, разработать новую науку о человеческой истории — такова задача.
Петр вслушивался в споры и предложения, честно старался во всем разобраться, но мысль его, прихотливая и яркая, уходила в сторону... Он видел снова крутую улицу Тулузы, холодную камеру, грязные кривушки Парижа, с ним разговаривали президенты парламентов, тюремные сторожа, беспутные бродяги и воры. И Петру хотелось, оборвав споры, отчаянно крикнуть: «Послушайте, да понимаете ли вы, что это такое! Это же иной мир, совершенно иной мир, и он отдален от нас всего одной тысячей лет!»