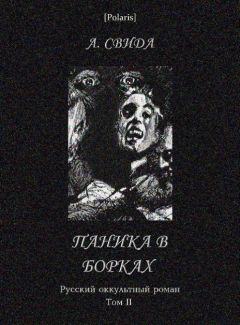Зашатался бедняга, падает.
При падении лицом к ней повернулся. Силы небесные! С бесформенной окровавленной маски лица на нее с нечеловеческой мукой Гришины глаза глянули, его кудри черные, кровью смоченные, взметнулись, и…
Вода помутилась? Или это она, Даша, без чувств на руки мельника падает?..
Проснулась игуменья. Привстала, оглянулась. В келии умышленно сохранен вид прежний, спаленка маленькая, узкая, оконце крошечное, в углу большой образ Богоматери — единое материнское наследие, благословила им, когда она к пострижению готовилась. На шаг отступя — аналой. На нем распятие и Евангелие.
Единственная только против прежнего роскошь — пушистый мягкий коврик, раскинувшийся почти на половину комнаты. На ноги стала жаловаться матушка, на колени уже едва становится, а тут еще новая беда, ступни опухшие зябнут. Ну и уговорили инокини свою матушку-игуменью роскошь такую, как ковер, допустить.
Называют ее великой молитвенницей и постницей, а того не знают, как много ей замаливать нужно. Спят в земле крепким сном звонарь — мать Феодосия и привратница — мать Агния.
Многое они могли бы рассказать про теперешнюю матушку, игуменью Антонию. Подняла глаза к образу, смиренно шепчет:
— Благодарю Тебя, Боже, за невзгоды и испытания, во спасение души моей посланные. Прости по милости Твоей незамолимый грех хулы на имя Твое!
Молода была, крест не по силам казался. Потому и не допускает теперь игуменья молодых послушниц до пострижения, а если замечает, что у которой-нибудь глаза неземной мукой светятся, то, как мать родная, с нею день и ночь пестуется и, Боже спаси, дверей перед ней закрывать не велит.
Не забыла, как она сама, юная Дарья-Антония, до зари на могилках об землю билась, как руки к небу то с горячей слезной молитвой, то с угрозой и проклятием протягивала.
Спит в земле и ехидно-смиренная мать Варламия, всегда пытливо ей заглядывавшая в глаза.
Часто-часто пришлось бы ей быть под началом, а то и жестокое заключение в церковном подвале вынести, если бы не матушки Феодосия и Агния.
Первая углядела ее Феодосия. Ну и вставала, бывало, часом раньше звона, чтобы ее среди могилок найти и в келью тайком привести; не увидел бы кто, не заметил, что она по ночам по ограде и кладбищу мечется.
По уставу не полагается ночью из келии выходить.
А какому риску подвергалась мать Агния, подумать даже страшно. Обе они риском тяжелого наказания душу ей спасли. Вечный вам покой, мои земные ангелы-хранители!
Ведь едва-едва она на себя руки не наложила. Бывало, среди ночи ползком к матери Агнии приползет, ноги ей целует, бьется, рыдает; выпусти на часок на волю, открой двери страшные, тяжелые.
Душат, гнетут стены высокие, от мира ее отделившие; ужас наводит дверь замкнутая.
Не монастырь это, а могила, где живые души мучатся. Не хочу видеть лиц этих постных, глаз опущенных, молитв притворных! Не хочу слышать звона песнопений этих!
Ничему не верю! Не верю в Бога! Слышишь, мать Агния? Или выпусти, или иди предай меня, отведи к матери-игуменье. Думаешь, боюсь! Нет, ошибаешься, — безумно хохочет молодая монахиня.
— Подвалом церковным пугает! Пусть посадят! Но прежде изорву, брошу ей под ноги одеяние это черное, а потом? Белье-то ведь оставите, и на решетке вашей тело мое висеть будет!
— Что ты, Христос с тобой, — наклоняется к ней лицо доброе-доброе, морщинки вокруг глаз лучами расходятся, худая рука мягко, любовно на голову опускается.
— Опомнись! Тяжкий непрощаемый грех хочешь на душу взять, жизни себя лишаючи… Не замолить тебе вовек и хулы на Господа, но велик он во благости и милосердии своем Видит душу твою. Потом замолишь, запостишь. А сейчас иди, а я на молитву за тебя стану.
Чуть звякнут ключи, не заскрипит осторожно приткры-тая дверь и я на воле! Жадными, огромными глотками хватаю воздух, сбрасываю у порога ненавистную скуфейку и бегу, бегу…
Как не попалась никогда никому — это уж милосердию Божию да смиренной любвеобильной матери Агнии приписать следует. Потом обтерпелась, смирилась…
Опять, как когда-то, на руки свои взглянула игуменья. Какие худые, желтые, сморщенные!
Глубокий, но не тяжелый вздох грудь приподнял.
— Благодарю и славословлю Тебя, Боже мой! — смиренно шепчут бледные губы…
Глава XI На балу у графини Бадени
Бывшая дача Ромовых горит огнями. Сегодня графиня Бадени дает бал.
Один за другим подъезжают автомобили и кареты.
У порога танцевальной залы стоит красавица-хозяйка и с ней ее родственник Прайс.
На графине светлое шелковое платье и никаких драгоценностей. Да и на что они ей? Только побледнели бы рядом с ее лучезарной красотой.
Для всех у нее находится приветливая фраза и чарующая улыбка.
Несмотря на значительное увеличение площади самого дома и пристройку большой танцевальной залы, с трудом помещаются съехавшиеся гости.
На приглашение откликнулись буквально все.
Играли тут роль не только громкое имя, выдающаяся красота и громадное состояние хозяйки, но также и… глухие, смутные слухи, связанные с личностью графини. Слухи эти, очевидно, создавали ей рекламу и были тем магнитом, который притягивал всех в ее дом.
В роскошной зале на хорах заиграл оркестр; плавно закружились пары танцующих.
В бывшей спальне убитого Рогова шла карточная игра, а в прекрасно декорированных комнатах его трагически погибших жены и дочери собрались солидные или просто не танцующие гости; среди них бесшумно скользят лакеи с прохладительными напитками, мороженым и фруктами.
Всюду слышатся оживленные разговоры.
Вот в углу большой террасы собрался знакомый читателю кружок: красавица Дарская, графиня Мирская, жена доктора Карпова, князь Волин и приват-доцент Сталинский[2]..
Льется светский разговор.
— Вот где я нахожу вас, Елена Николаевна, — обратился к Дарской вошедший товарищ прокурора Корнев. — Огни танцевальной залы потому так слабо ее освещают, что в ней отсутствует самая яркая звезда!
— О, Всеволод Александрович, какое неудачное сравнение, — засмеялась Дарская. — Кто же не знает, что яркий свет и звезды понятия не совместимые. Вы, вероятно, хотели сказать, что я ушла в тень потому, что в зале слишком яркие огни!
— Елена Николаевна, преступно так искажать смысл моей фразы, а еще непростительнее заставлять нас искать вас по всему дому и саду!
— Ой-ой, Елена Николаевна, вас обвиняют в серьезном, непростительном преступлении; интересно, как сумеете вы оправдаться от этого обвинения, — вмешался в разговор Волин.
— Ничего, князь, я видела в саду нашего многообещающего юриста г. Захарова; если уж Всеволод Александрович очень обрушится на меня с своими обвинениями, я призову на помощь защитника!