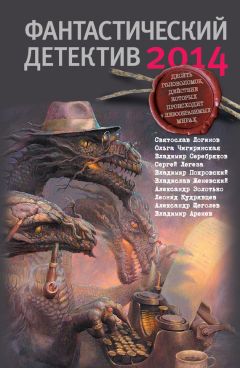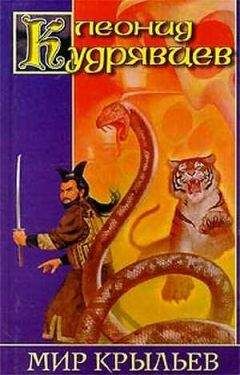– А остальные трое, добрые господа, это Вольфганг Херцмиль, что нынче при войске господина барона, да двое из тех, что снова прибились к Альтене – но под новой властью уже…
– И зовут их Йоханн Клейст и Альберих Грумбах, – произнес задумчиво Дитрих – словно вывод из силлогизма сделав.
Рыжий, белый и черный глянули на него удивленно, корчмарь и вовсе распахнул рот и выкатил глаза, а Махоня чуть не рассмеялся от того, как сошлась вдруг история.
* * *
Так уж вышло, что к капитану Грумбаху Дитрих Найденыш пошел в одиночку. Ольц, купно с рыжебородым Херцером – чтобы маячил сзади и нагонял страх на честных обывателей Альтены, – остался в кабаке: допросить, кто что видел в злополучную ночь. Долленкопфиус, чернильная душонка, взялся порыться в уцелевших архивах магистрата, поискать, что найдется об исчезновении Курта Флосса и его семьи, – и прошелестел, глядя куда-то за Утера: хотел помочь? Помогай же.
А в «Три дуба» отправился Дитрих.
Махоня, шагая за писарем в сторону магистрата, некоторое время видел еще впереди выцветший кафтан Найденыша да выбеленный дождями и солнцем плащ его. Потом Долленкопфиус свернул, и ведьмобой пропал с глаз.
Магистрату Альтены не зазорно было б и во Франкфурте стоять: с острой крышей, башенками, резьбой и статуями. Двери высотой в три человечьих роста. Правда, теперь магистрат был полуразрушен: когда «башмаки» вышибали из города баронских людей, отряд рейтаров обложили как раз здесь, за дубовыми дверьми. Пока же пытались их выдавить да прирезать, здание пожгли и завалили северную стену. Крыша там просела, и никто ее с тех пор не подновлял.
Новая власть облюбовала Сойкову башню с ее подвалами и пыточными, магистрат же обжили вороны да голуби. Еще было здесь пяток «башмаков» с алебардами да древний дедуган-архивариус, на свой страх и риск присматривающий за уцелевшими в погроме да пожаре бумагами. К нему-то и направился Долленкопфиус.
Выслушав их, старикашка скорбно поджал губы и произнес:
– Уж лучше бы вы, добрые господа, вместо того чтобы раз за разом подступаться к тутошним бумагам, придали мне помощника-другого и запретили простецам шастать по ратуше: какая бы власть но установилась, а в жилах ее струится не только кровь войны, но и чернила писцовой работы.
Потом взял фонарь со свечой и повел их каменной волглой лестницей вверх, в южную часть домины.
– И кто же, – не удержался от вопроса Махоня, возбужденный словами старикашки о чернилах как крови державности, – кто же еще обращался к вам, уважаемый, за помощью?
– Сперва бывший господин советник Гольдбахен. А совсем недавно – кто-то из нового войска, уж не знаю, как они там себя называют. Хмурый такой, в справной одежке, но словно бы с чужого плеча. А мы, добрые господа, пришли, – и посветил свечою вперед себя.
Там, в тесной, заставленной глубокими стеллажами комнатке, с единственным столом посредине, в восьмиугольнике стен, были сложены оставшиеся после разорения магистрата бумаги. И было их, как на все беды Альтены, на удивление много.
– Вот, – проскрипел старикан, водрузив фонарь на стол. – Вот, – повторил он, широко разведя руки.
Под потолком по окружности шли узкие, забранные промасленной и провощенной бумагой окна-бойницы. Солнечные лучи в них не врывались – протискивались, оттого фонарь оказался небесполезен.
– Ну что ж, – шевельнул пальцами, словно разминая их, Долленкопфиус, – полагаю, что судебные дела и приговоры не уцелели?
Старикан развел руками в непритворном огорчении.
– Вот ведь удивительное дело, – проговорил писарь, ни к кому конкретно не обращаясь. – В мирное время плоть всегда слабее бумаги, зато в бунташие годы все наизнанку выворачивается. Что ж, поищем тогда в других записях. Нам нужны списки цехов, фискальные списки, копии приходских книг, то, что осталось от судебных бумаг, – пусть не приговоры, но хотя бы исковые листы – и еще, пожалуй, сведения о денежных дарениях в городскую казну и здешние церкви.
Старик-архивариус поглядел на белесого штафирку с измазанными чернилами кончиками пальцев с явным уважением.
А потом они трое нырнули в бурую бумажную пыль и заплесневелые пергаменты.
Рылись в бумагах, что кроты в огороде: подслеповато щурясь в слабом свете на выцветшие чернила, вороша пожелтевшие да побуревшие страницы. Долленкопфиус хмыкал, гукал, мычал под нос радостно, когда находилась особенно важная, как казалось ему, бумага, или фыркал раздраженно, когда поиски заводили в глухой угол – или когда эпистола, до которой он желал бы добраться, отсутствовала.
А Утер, даром что с полгода уже работал с бумагами в «башмачной» управе, только диву давался, сколько следов оставляет простой человек в бумажном море. Всей жизни-то человека – от крестин до могилы, а там следок оставит, здесь – запись, тут – маргиналию на полях или закорюку в разлинованных графах. То грошик даст магистрату, то грошик от магистрата получит. И так вот, буковка к буковке, и выпишется человек на серых листах поганой бумаги да на грубом дешевом пергаменте.
От Курта Флосса, правда, следов осталось негусто. А что остались – подтверждали рассказ кабатчика. Была отметка о внесении Куртом Флоссом денежной выплаты за вступление в цех каменотесов. Был список заздравного слова церкви Святого Ульриха, где упоминалась «чудесная резьба бокового нефа, изображающая Последний Суд и Воскрешенье». Было, наконец, упоминание – на отдельном обгоревшем листе – о посланном в леса под городом отряде альтенской милиции, с пометкой на полях: «расспросить мальчика пока невозможно».
Наконец Долленкопфиус если не умаялся, то проголодался: дух уступил плоти, как в часы нестроения в державе уступала плоти и бумага.
Долленкопфиус отправился обедать в «Титьки», Утер же решил заглянуть в «Три дуба»: во-первых, дотуда было куда ближе, чем до кабака Фрица Йоге, во-вторых же, ему хотелось разузнать у тамошних знакомцев, как прошла беседа Дитриха Найденыша с Альберихом Грумбахом.
Но едва он подошел к Трехгрошовому переулку, где стояла корчма, как Господь, в справедливости Своей, показал, сколь пагубно бывает досужее любопытство. Стоило Утеру ступить в холодную и вонючую тень поперечной улицы, как слева, от подворотни, послышалось неясное: «Ага! На ловца и зверь…» – и сильная рука сграбастала его за шиворот, впечатав лицом в стену.
Утер даже не успел толком испугаться – да и что было бояться? «Башмаки», едва войдя в город, завели внутри стен порядки столь жесткие, что грабители если и не повывелись, то уж точно – попритихли, предпочитая малый верняк пеньковой «веселой вдове». Махоня даже не потянулся и к висящему у пояса ножу – да и не обучился он толком ножом тем владеть, несмотря на весь свой буршеский опыт.