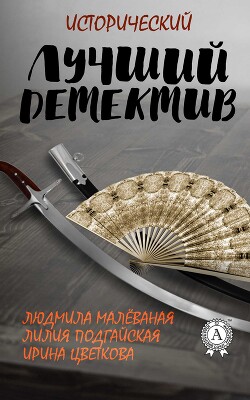выпечку — тёмно-коричневые печенюжки, пряно пахнувшие корицей. Сашкина мать прихлёбывала холодный несладкий кофе, осторожно откусывала от жесткого печенья крохотные кусочки и вежливо нахваливала:
— Вкусные пряники!
— Данке шён, — улыбалась одними глазами фрау Мария.
— Вкусно, очень вкусно! — говорила она и демонстрировала свой «безупречный немецкий: — Гут! Зер гут, фрау Мария!
Фрау Мария попыталась занять разговором её молчаливого отца. Но тот, остановившись у стены, где рядом с консерваторскими дипломами в рамках висели фотографии двух молодых немцев, в солдатской форме «Вермахта», стоял набычившись и катал желваки на крутых скулах. Из коротких бесед с фрау Марией я знал, что это её сыновья, погибшие в сорок третьем году под Курском. На войне как на войне…Одно бросалось в глаза — сыновья её были сняты, как тогда выразился подполковник, в «фашистской форме». За год службы в ГСВГ я неплохо изучил своего начальника и не удивился, что именно эти фотографии привлекли внимание подполковника.
— Это Курт, младший сын, — сказала фрау Мария, погладив сухими длинными пальцами фотографию. — А это Фриц, мой старший.
— Угу, — буркнул Стонога. — И где же они… ваши Фрицы, сейчас?
— Там, — подняла глаза к люстре фрау Мария. — На небесах, думаю, гер офицер. Оба погибли. На дуге, так она у вас называлась… Где-то там, под Курском, в русской земле лежат сыновья мои.
Она глубоко вздохнула и поцеловала каждый портрет в отдельности.
— Я сам из-под Курска, — глядя поверх головы фрау Марии, выдавил из себя подполковник.
— Тоже под Курском воевали, гер офицер? — тихо спросила фрау Мария.
— Берлин брал, Прагу брал, — буркнул Стонога. — И под Курском тоже воевать довелось…
Он подумал и добавил:
— Землю свою защищал…Свой отчий дом, можно сказать!
— Понимаю, гер офицер, — проговорила фрау Мария каким-то извинительным тоном.
Подполковник опять покатал желваки на крутых скулах, глядя на портреты её сыновей, сказал с хрипотцой в голосе:
— Не понимаю, зачем все эти курты и фрицы к нам лезли?… Вам что — своей фатерлянд не хватало?
Фрау Мария вздрогнула, как от выстрела, промолчала, потупив взгляд.
— У нас, знаете ли, кто придёт с мечом, тот от меча и погибнет, — добавил подполковник. — Сидели бы в своей Германии, кофе попивали бы свой, пряники жевали — и были бы живы, ваши Курт с Фрицем. И тысячи наших Иванов были бы живы…
Фрау Мария виновато посмотрела на подполковника Стоногу, потом перевела взгляд на фотографии сыновей и почти прошептала:
— Это Гитлер виноват… Они — солдаты, а солдатам всегда приказывают политики… У любого солдата, конечно, есть свой фатерлянд, но есть и свой долг, присяга…
— Старая песня! — оборвал фрау Марию Стонога. И неожиданно для меня процитировал песенку Окуджавы, которая в то время часто звучала перед советскими фильмами в солдатском клубе:
— «Иду себе, играя автоматом… Как просто быть солдатом, солдатом…». Так, что ли? Это не я! Это Гитлер, Гимлер, Геббельс со своей бесовской пропагандой во всём виноваты… А где был народ немецкий, с его великой культурой, наукой и литературой? Где был ваш хвалёный пролетариат, который провозглашал Веймарскую республику, а потом сжигал в печах Бухенвальда женщин и детей?… А теперь — что? А?
Мой начальник разошёлся не на шутку. Шея его налилась кровью, покраснела, глаза побелели… Так, насколько я помнил, Стонога всегда входил в раж. Но что я тогда мог сделать? Каждый был прав по-своему. Но мне всё-таки стало жаль немецкую учительницу. Она смогла простить. Стонога — нет. И потому я был на стороне фрау Марии. Великое человеческое качество — уметь прощать бывшим врагам своим… Память должны быть, как и сердце, милосердна.
Верить, терпеть, прощать и любить… Великая мудрость христианской жизни. Откуда в моей простреленной башке эти слова? Кто их мне туда их вписал? И зачем? Ведь мы так и не научились прощать. А без прощения нет ни веры истинной, а главное — нет и быть не может Любви, второго имени Бога…
* * *
Мой добрый доктор Ничипоренко, прочитав мои воспоминания, только почесал уже наметившуюся лысину.
— Да вы просто писатель, батенька! Вот ведь он, парадокс памяти — что было сорок лет назад помнит всё в мельчайших деталях, а что было месяц назад — полный провал. Вакуум. Стоногу какого-то вспомнили в мельчаших деталях, а свою фамилию вспомнили? Кто вы, господин писатель?
Я, уже вступивший в славные ряды «ходячих больных», подошёл к Николаичу, виновато посмотрел ему в глаза и сказал:
— Простите меня, не помню…
Врач только махнул рукой. Глядя на меня, Ничипоренко вздохнул:
— Я и следователю сказал, что пока рано снимать с больного показания. Какие показания, если он сам себя не помнит?
Слова, прозвучавшие за несколько минут — «писатель», «следователь» — как маячки о чём-то просигналили моему мозгу. Вот только о чём? Этого я не знал.
Ничипоренко попросил меня встать у белой стены, где краснело «амёбное» пятно. Я удивился просьбе лечащего врача, но молча встал. Как на расстрел встал. Как тогда, в своём сне-были, когда обер-лейтенант Фридрих Ланге расстреливал меня у речки Псёл, в котором поласкала бельё ещё не родившая меня моя мама…
— Не надо бледнеть, — засмеялся Николаич. — Я не собираюсь вас расстреливать. Просто сделаю снимок на свой смартфон и отправлю его по электронке на областное телевидение. Пусть пару раз покажут в эфире. Быть может, кто-то вас и опознает.
* * *
В тот день я родился в третий раз! Именно так: первый раз, как было зафиксировано в метрике, второй раз — благодаря Николаю Ничипоренко, а в третий, когда в палату… нет, не вошла, влетела будто на невидимых крыльях своего ангела-хранителя Зарема.
— Игорь! — закричала она от порога палаты. — Игорь, милый, как я рада, что ты живой.
Вслед за ней вкатился маленький пухлый человек с папкой под мышкой.
— Разрешите представиться — следователь Ганин, — сказал колобок, поправляя сползавшие с пивного животика старомодные брюки.
Он тут же открыл папку и стрельнул глазами в раскрасневшуюся Анастасию:
— Как вы сказали? Игорь? А фамилия?
— Игорь Ильич Лаврищев, — в свою очередь представился я, вспомнив всё, что произошло со мной этим летом, уже уходящим в историю, которая нашла свою нишу, свободную ячейку в моей продырявленной памяти. — Тоже следователь, хотя и бывший.
— Василий Петрович, дорогой вы наш суджанский Шерлок Холмс, — пряча иронию, обратилась к колобку Анастасия. — Оставьте нас на минуточку. Очень вас прошу. Я думала, что уже никогда не увижу этого человека… Вы должны меня понять.
— Понимаю, — вздохнул Ганин, откатываясь в коридор.
— Не обижайтесь, пожалуйста, Василий Петрович, — бросила ему вслед Зарема. — Вы потом расскажите потерпевшему,
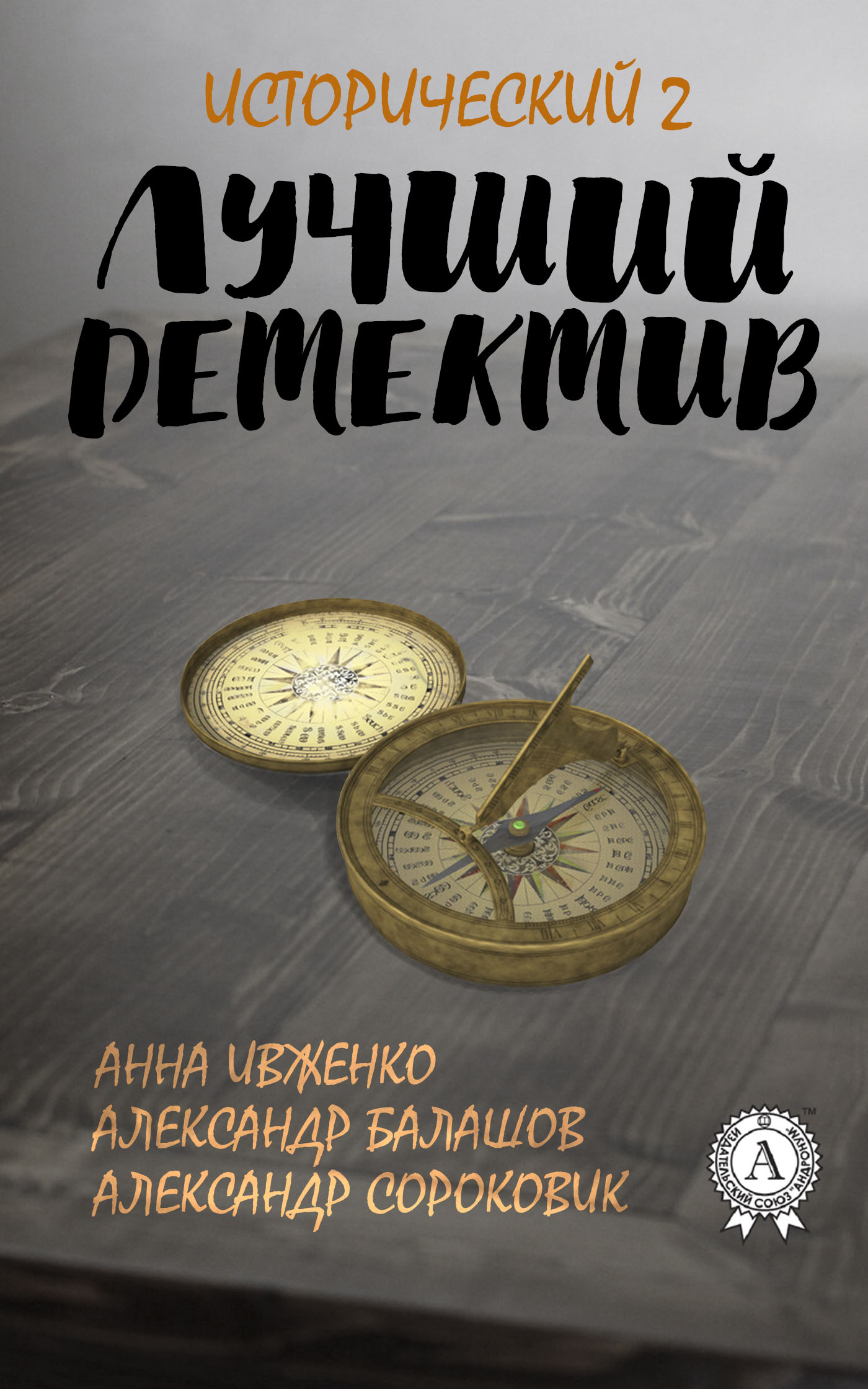
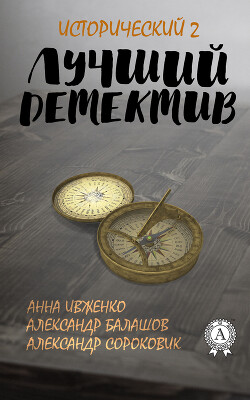
![Лучший исторический детектив [сборник] - Людмила Малёваная](https://cdn.my-library.info/books/386626/386626.jpg)