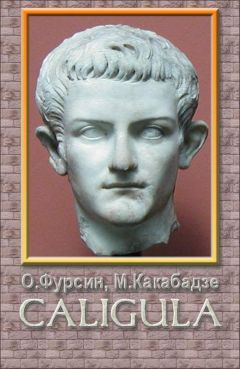Ознакомительная версия.
Нашли мы парня под утро, как рассвело. При отвершке[24] Большого Михайловского лога, там, где ручей безымянный течет. Приток Битюга.
В крови весь и растоптан. Слово одно сказал нам богатырь, как понесли его ко двору барскому, где дядька его работал. Думали, может, откачаем. Только в дороге он и отошел. Говорить и до того не особо мог. А сказал он, не сказал, а просипел едва слышно: «Лобастый»…
Кто ж это прозвище не знал, не слышал из наших, из крестьянских, кто под Воронежем крестьянствовал? Только глухой если от роду.
Бык это, Лобастый. Производитель. Его родитель привезен был из дальних мест, из Аквитании, Хвранцуз, значит. Ну, сам-то он недолго и прожил в наших местах. Известное дело: эти, которые во фраках, англичане да хвранцузы, они нашего климату не любят; условия опять же им подавай особые. А нет у нас их, хоть что делай. Чтоб бык-производитель был здоров и жизнью доволен, надо его особо содержать. Он гулять должен. Немного и поработать в день, чтоб подразмять кости. Его щеткою чистят день каждый, обмывают от грязи, а в теплую погоду купают. Меж рогами у него, а еще шею, лоб и затылок от перхоти и пыли очищают; это, видишь, чтоб он не чесался, не чухался. Копыта подрезают, от грязи чистят. А уж как за тем ухаживают, чем бык работает…
Да три раза в день кормят. Кровяной мукой, яйцами. Сеном да сочными кормами.
Я в барском доме если не родился, то вырос. А за барчуком-то нашим такого ухода и то не бывало, скажу так. Хоть и баловали его до невозможности.
Словом, кончился Лобастого родитель. А коровки наши, они этого, которого во фраке-то, успели полюбить до кончины его. От Любушки с Хвранцузом Лобастый и произошел на свет. Крепенький бычок оказался. Отцу в укор и в подражание прочим.
Бык этот многим нашим коровам приплод исправно поставлял. Почитай, сто коровок любушками у него в год перебывают, он их телятами осчастливит. Откуда только они к нему не прибывали.
А молоку откуда браться, когда бы ни бык?
Бык белый; если точнее, бело-желтый, палевый…
Ну и норовистый он, Лобастый этот!
В нос кольцо продето, чтоб управлять; больно же ему, верно, крутить башкой, а он крутит, да так крутит, что мужики от него в сторону летят, те, что кольцом управляют. Землю роет копытом, мычит…
Дядька сказывал Илюшин: невзлюбил племянник быка.
— За что ж почет быку энтому, дядько? — спрашивал. — Чего такого, чего другой не делает? Другой надрывается в поле, в тягле стонет. И в холод, и в зной. А энтот барином, и жрет целый день, и гуляет. Я бы ему рога-то пообломал, когда бы дали. Я бы его, проклятого, на воду посадил да на сено жидкое. Ишь, разгуливает по двору, ишь, глазом косит! Я б его в ярмо, да кнутом, кнутом по гладкой спине! Никакой ему работы, срамота одна, а он гордится! Видно же, дядько, что гордится…
Как осмелился крестьянский сын выйти с быком, кто ж его знает? Как свел он быка со двора? Оно, конечно, от дядьки своего знал о том, как Лобастого содержат. Да и был целый месяц рядом с дядькой, видел все. Но зачем, зачем?
Видели мы того быка, и кровь Илюшину на рогах его тоже.
Слушали, как мамка его выла, Илюшина. Мороз по коже и по сей час…
А как в деревне узнали про Илюшину смерть, поднялось такое! Похватали мужики, кто на ногах стоять может, у кого две руки, всякое разное: багры, вериги, колья, прочее добро разрушительное, и пошли-побежали к дому барскому. Уж крушили, ломали, били; ан нет, не успокоили души. Опосля подожгли, пустили-таки петушка красненького. Эх, гори-гори ясно, чтобы не погасло… Оно, конечно, и погасло; только перед тем сгорело все дотла. На месте былых хором пепел пожарища. Жди теперь расследования, как дойдет до людей немилосердных, властью облеченных. И уж они не оплошают, как мы с Данилой-то…
Я, старый и грешный, себе и сам не поверил бы, когда бы раньше услышал, но вот так оно со мною случилось, и сказываю вам, раз обещался. Слишком многое за короткое время случилось на селе. Вот как дом барский пожгли, проникся я беспокойством. Уж и Гришенька не помогал, со своим художеством. Места я себе не находил. Данила-зодчий и сердился уж, ворчал на меня:
— Мешаешь, Ерема! Сядь уже. Юлу я ребятишкам смастерил, не одну, не нужна такая большая, да еще с крыльями, как у мельницы. Места у тебя тут и без того немного, а как ты мельтешишь, под нос себе что-то бормочешь, руками размахиваешь, словно бесноватый, так хоть из дому беги. Наше дело сосредоточения душевного, тишины требует.
Вот как однажды сказал он мне так, я и вышел из избы своей, гневаясь, в сердцах что-то приговаривая. Не припомню, что, но весьма сердитое.
И пошел, пошел, куда глаза глядят.
А может, и не так. Пошел, зная, куда; туда и глаза мои глядели; а что не признался сразу…
Слаб человек, согрешает он. И я таков, а признаваться не хочется.
Шел я к тому самому месту, где лесникова изба временная, суть избушка на куриных ножках, стояла. Где грешная дочь человеческая, на которую бы глаза не глядели, плетет свои чары.
Ну, а коль шел, то, вестимо, дошел.
И, как на грех, в избе она была. Словно ждала меня.
— Гость у меня какой неописуемый сегодня, Ворон, друг сердечный, — говорит. — А я готова к тому, хорошо, что пришел.
Обомлел я, как увидел их вдвоем. Сама сидит на лавке, на плече и впрямь ворон. Большой такой, черный, с синеватым отливом. А на крыльях прямо в царский пурпур цвет переходит, отливает красным. Темно-бурыми глазами так меня и пронзает птица. Хвост клином; клюв такой-то острый да крепенький…
— Хочешь, скажу, Ерема, зачем пришел?
А я бы и сам сказал, только бы язык онемевший, к небу примерзший, не вертится во рту. В ушах звон стоит.
То ль темно в избе, то ль туман какой она напустила. Только не бабкой старою ее вижу, а вроде бы и бабой в самом соку. Волосы по плечам распустила, и хоть бы один седой блеснул. Черные, как смоль; вот как есть конь вороной, такой же хозяйка масти. Я веками смаргиваю, то вижу ворона, то нет: сливается с нею, чертов сын. Сарафан на ней черный, да с обрядами цветов по низу. Цветы алые, вот как маки. И шаль такая же на ней, алая.
— Да не гляди на меня, сын крестьянский, так-то, не положено тебе. Ты ж не за тем пришел, вот и не надо….
Ласково так сказала, словно пропела. А мне и вовсе как-то маетно сделалось. И впрямь не за тем пришел. И давно уж томления отрочества и юности не посещали, а тут…
— А пришел ты, Еремей Еремеевич, чтоб поспрошать меня, силу бесовскую, о том, что тут будет. Спасешь ли ты от смерти крестьянских детушек. Что барин скажет о том, как не уберег ты его удел. Как, справится ли мир сельский с соблазнами, что к смерти ведут. Много вопросов у тебя, Еремеюшка…
Вот знал же, что не к добру сюда идти, как в воду глядел, так и вышло. Насквозь она меня видит.
— Да не пугайся ты, мужик, простая душа. Не надобно силы бесовской, чтоб угадать вопросы твои. Что на селе случилось, знаю, кто таков ты, тоже известно бабке-ведунье. Зачем ко мне ходят, знаю. Угадала беспокойство твое: так на то я и баба. Из ребра твоего сотворенная!
С языком мне не справиться никак, ноги подгибаются. Вот и прошел я в избу ногами нетвердыми, сел на лавку напротив, чтоб видеть ее. Так-то любоваться хочется, мочи нет. Вот ведь незадача.
— Скажу я тебе: мир справится, Ерема. Детушек, верно, не уберечь тебе, коль сами себя не уберегут; знаешь ты про то, только обмануть себя хочется. Сказку с хорошим концом хочется. И правильно это, человеку так и надо: хорошего хотеть. Барин… а, барин твой, то ветерок: вот он, с крыши сорвался, на тебя обрушился, лист унес кружевной, бабе подол оголил… ан, уж нет его, и ладно, и хорошо. А еще добавлю, от себя. Хорошо, что ко мне пришел, Ерема, сегодня. И я на распутье стояла, а ты путь указал. Все, больше не скажу ничего…
Стал я подниматься с лавки. Ни тебе поздороваться, ни проститься. Зачем приходил, что путного баба колдовская сказала?
— Постой, Ерема, мужицкий сын, жила крестьянская, — пропела она. — Я-то не скажу. А Ворон мой скажет. Придет время, припомнишь.
И впрямь: встрепенулся ворон на ее плече. Скачут они перед тем, как на крылья подняться; вот и этот с плеча спрыгнул, ко мне поскакал… Скок-поскок, вот и у самых ног моих.
Клюнул он меня в ногу, паршивец. Раз, другой, третий… Семь раз насчитал я. Потом поднял голову свою, глазом бурым на меня уставился. Понял, мол?
Ничего я не понял, вот и качнул головой. А этот меня еще раз по ноге: клювом своим! До крови, я даже вскрикнул…
Вскрикнул, встрепенулся, не хуже ворона этого, глядь: стою уж не в избе, а в лесу, на дороге, что к дому идет. Был я у ней али не был? Как приснилось…
А мужиков наших, тех, кто барский дом спалил, отцов наших убиенных детушек, в острог уездный забрали. Секли розгами, каждому по тридцать ударов дали. Там и отпустили: вот, приедет барин, там посмотрим. Он вас рассудит…
Пятеро мальчиков, кровинушек, родненьких, сгинуло уж от разных бед, одна другой немыслимее. Готовились еще две смерти, как думал Данила-зодчий. И не было дня, чтоб не размышляли мы об этом, не помнили. Не было дня, чтоб не говорили да не советовались: как в беде этой помочь? Помочь так, чтоб сгинула она навеки, проклятая. Чтоб уж никогда, нипочем, ни-ни…
Ознакомительная версия.