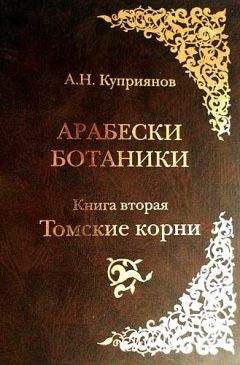— Да?.. — мне было не до сына. — Слушай, давай пройдемся. Поговорить надо.
Она выслушала молча. Мы стояли под козырьком нежилого подъезда, сверху текла холодная вода. Откуда-то несло мерзкой резиновой гарью.
— Что ты молчишь? — спросил я. — Думаешь, папа сошел сума?
Она смотрела в дождь.
— Да нет. Все нормально. Пойдем отсюда, пожалуйста.
— А как ты поняла, что я здесь? — я и не пытался поймать ее взгляд.
— Не дура, — отозвалась она, трогаясь к дому.
…Конечно, не дура.
Я терпел до субботы, каждую минуту чувствуя, что девчонка думает обо мне. Тревожится. Пару раз она подходила и нежно, с какой-то неуловимой ноткой тоски целовала меня в щеку.
Суббота была пыткой, но я выдержал — не пошел. Уже стемнело, фонари зажглись, а я был дома, смотрел фильм, не видя экрана. И вдруг сорвался.
— Мне нужно, нужно… — судорожно одеваясь, бормотал я испуганной Алине, застывшей на пороге комнаты. — Пойми, я ненадолго. Туда и обратно! Сейчас приду!
Она промолчала. А я почти бежал туда, понимая, что в темноте ничего не увижу и не найду. Разве что нарвусь на теплую компанию наркоманов где-нибудь в развалинах.
Дождя не было, светила холодная луна. Я был одинок. Господи, как в ту минуту я был одинок! Мне не хватало кого-то рядом, и я понимал, что теперь и не будет хватать до тех пор, пока не найду.
Добежал до странной будки, едва различимой во мраке. Над горами песка желтел огонек, и я не сразу понял, что это — та самая башенка.
Свистнул как можно громче и прислушался. Тишина сразу распалась на тихие звуки: шум реки, далекий транспорт на шоссе, скрипы, шорох сада, ветер.
— Господи, — тоскливо сказал я в пространство. — Где ж ты, а? Если не хочешь возвращаться, то хоть не мучай. Оставь меня в покое. Я о тебе думаю круглые сутки. Нельзя же так.
— Конечно, нельзя! — отозвался из темноты ясный мужской голос. Сверкнул огонек зажигалки, и в свете этой краткой оранжевой вспышки я узнал майора, стоящего шагах в пяти от меня.
— Вы что, так и не нашли собаку? — меланхолично спросил он.
— Нет.
— Теперь уж и не найдете, наверно. Времени сколько прошло… Может, кто подобрал. Объявление не пробовали дать?
— Что? — я никак не мог понять, о чем он говорит.
— Объявление, — повторил майор. — В газету. Или по столбам расклейте. Может, вернут. Кому сейчас нужна чужая взрослая собака?
— А можно спросить, товарищ майор? — я сознавал, что выгляжу глупо и странно, и дай Бог, чтобы он продолжал думать, будто я пришел всего лишь за собакой.
— Ну да, конечно, — после паузы отозвался он.
— Почему выселили поселок?
— Под снос, — майор зевнул — Всем квартиры дали. У нас два человека тоже получили. Хорошие квартиры, парк рядом. А что?
— Ничего, — я вздохнул. — Пойду, пожалуй.
— Вас как зовут?
— Кирилл.
— Кирилл? Ага. Ну, хорошо. А не ваша это дочка, темненькая такая, с короткой стрижкой? Картавит немного?
Дочка была моя, то есть, не моя, а Алины. Но я ответил:
— Да нет.
* * *
До зимы. До конца января я ждал. Самое, наверно, трудное на свете — это ждать, особенно если не знаешь — чего. Потом стена назвала мне имя — «Мавель», а радио, издевательски усмехаясь, посоветовало держаться подальше от водоемов, потому что после Нового года три недели стояла теплынь — лед и собаку не выдержит.
Падчерица привела тихого мальчика и назвала его Юрой, смущаясь перед матерью и ковыряя обои. Юра жался в угол.
— Заходи, — я улыбнулся ему ободряюще, но девчонка глянула вдруг так, что я умолк и долго потом гадал, в чем дело.
Мы отдалились, и за столом, где вся семья пила чай, она смотрела, как чужая. Слова, будто мячики, прыгали через белую скатерть, заставленную чашками и блюдцами с кусками торта. От Алины — к дочери, от дочери — к Юре, от Юры — к моему сыну Стасу, от Стаса — к Алине. Я никак не попадал в их ровную игру. Мои неловко брошенные мячи вылетали за край поля, никем не подхваченные и даже не замеченные, словно их и не было.
Возможно, это происходило не впервые. Возможно, так было всегда. Но, ложась спать, я сказал мысленно, обращаясь к пустому берегу реки: «Мавель, если я тебе нужен, дай знать. Ты не представляешь, как важно быть кому-то нужным…»
* * *
Каждая капля весила тонну, и мне казалось, что сейчас они пробьют жестяной подоконник и разрушат козырек подъезда. Я увидел ту девочку из осеннего дня, идущую по талой воде под окнами, и безжалостно рванул раму:
— Эй, погоди!
Она задрала голову, поморщилась, вспоминая, и вдруг бросилась почти бегом, разбрызгивая ботинками мокрую снежную кашу.
— Ты куда? Да погоди, это я, я купил у тебя игрушку!
Она убегала, но я оказался шустрее: выскочил в тапочках, догнал, развернул к себе и всмотрелся в чистые глаза:
— Я тебе ничего не сделаю. Я знаю, что у дворника нет детей. Он и не женат даже. Да мне все равно, честно. Я просто хочу узнать, что происходит.
— Я тут ни при чем, — девчушка вырвала плечо из моих пальцев и уставилась на грязных весенних голубей. — Вы сами виноваты. Зачем вы ее выбросили?
— Я очень испугался. Она зашевелилась.
— И что, она сожрала бы вас, такого большого? У нее и зу-бов-то нет. Мне надо было сказать, что она приходит на свист. Забыла. Да ладно. Она к вам теперь не вернется. Вы бы вернулись, если бы вас выбросили?
— Я — нет.
— А чем она хуже вас? — девочка уже уходила, сердито поджимая губы. — Тоже мне. Такой здоровый, а трус. Надо же…
— Она сейчас у тебя? — я не обиделся на ее слова, только удивился немного. — Откуда ты знаешь, что я ее выбросил?
Тапочки уже намокли. Девчушка не обернулась, буркнула:
— Я сама хороша. Продала ее за полтинник. На черта я ей нужна? Мы все, по большому счету, гады.
Словно о собаке. Или кошке. О живом. Я уже знал, что пойду искать. Ночью мне приснилось, что, счастливый, я иду по какому-то заброшенному пустому складу, а Мавель едет на моем плече и почесывает меня за ухом. Она тоже счастлива. Мы ищем место, где присесть и перекусить, сквозняк шевелит клочья грязного полиэтилена в пустых оконных рамах, а небо серое, как картон, и галки орут, словно чувствуя приближение боя.
Проснулся и ощутил себя сиротой. Алина еще спала, открыв рот и издавая странные булькающие звуки. Падчерица возилась в своей комнате, сына не было слышно. Я встал так осторожно, что тахта даже не шевельнулась, и вышел на кухню, где уже напевал включенный чайник.
Вошла падчерица, и мы одновременно потянулись к приемнику. Я уступил, но радио ответило все-таки на мой вопрос: «…при отсутствии нареканий со стороны администрации возможно условно-досрочное…».
— Фу, — дочь Алины уселась и глянула в дождливо-снежное окно. — Это не мне, папа. Явно — тебе. Ты меня перебил.
Внизу ползла машина, свет фар рассеивался в мокром тумане.
— Детка, — я погладил девушку по голове. — Ну, прости меня. За все. Почему ты такая сердитая? Что я тебе сделал?
— Мама сказала, что ты мне не отец.
— Дура! — я тихо взорвался. — Проклятая дура!. Когда она это сказала?
— Тогда. После игрушки. Я очень плакала из-за тебя. И она плакала. А потом сказала что ты мне не отец. Что, когда вы встретились, она была на седьмом месяце. А ты женился на ней, потому что пожалел.
— Слушай, — я бессильно злился. — А это вообще важно?
— Да нет. Просто теперь у меня будет одной морокой больше. Надо еще его найти. Ну, того, ты понимаешь.
— Зачем? Он тебе нужен? В глаза посмотреть хочешь? Да незачем. Скотина он.
— Ты его знаешь? — тревожные глаза чуть расширились.
— Нет. Я предполагаю. Если бы знал, морду бы расквасил, честное слово.
— Да? — она удивленно взглянула на меня.
— Он мог что-то сделать. Придумать, — добавил я. — Время было такое. Твою маму просто заклевали бы из-за этого. И давай закончим разговор.
— А ты все еще думаешь ну обо всем этом?
Я видел: вопрос важен. Она нервничает. Надо сказать нет я уже забыл. Но я не мог.
— Думаю, детка. Но что толку?
* * *
Лето рухнуло с небес, как наказание за грехи. Душное, знойное, тяжкое. Не лето, а борьба за выживание под злым солнцем, которое вдруг перестало ласкать и начало мучить. Все время хотелось пить, и я, выходя из дома, брал с собой двухлитровую бутылку холодной воды, которой хватало на час, не больше.
Я искал. Это стало привычкой, как умывание по утрам, как завтрак. Иногда мне казалось, что я схожу с ума, без цели бродя по выгоревшей траве среди ничейных яблонь и вглядываясь в песок и мусор под ногами. Я звал. Я заговаривал с ней. Она не отвечала, но один раз, когда я, заслышав шорох за спиной резко обернулся, кусты дикой полыни еще хранили отпечаток ее бегства.