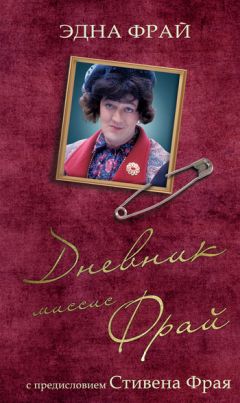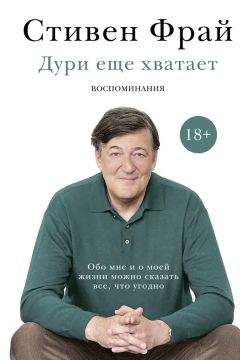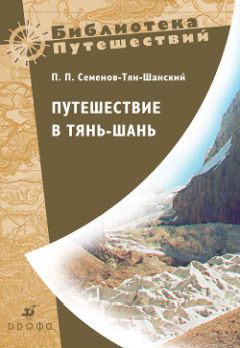"…За обрушившейся кладкой открылось полуразложившееся тело покойницы, на голове ее сидел и орал черный кот, который питался ею все это время, и на груди у него белое пятно уже приняло отчетливые очертания виселицы".
"…сердце расчлененного старика стучит под половицами меблированной комнаты".
"…В один миг он превратился в груду расползающейся, гниющей на больничной постели массы".
Здесь ад.
От этого спастись нельзя. Разговоры тают, со временем стираются из близорукой памяти детства, они лишь мановение — не истинное разложение — но только его запах, от которого можно скрыться.
От книг скрыться нельзя.
Они будут всегда, — даже если книгу выбросить или сжечь, где-то будут обитать эти тысячу раз набранные, переведенные докучными умниками строчки.
Книга отброшена, за ней снова вступают разговоры, — хорошо, нет фантомов, ничьи облепленные грязью, подретушированные в морге руки не скребут прилежно могильную землю, нет никакого Песочного человека, его придумал один очень грустный немец давным-давно, придумал и пошел спатеньки. Спи и ты, сыночек, спи и ты…
Но у меня есть кое-что взамен шагающих трупов, кричащих черепов, Ободранного Лица — Кожа — да — Кости, взамен маленьких человечков, которые всегда нападают скопом, взамен Женщин с Красным Лицом и Твоей Мертвой Прабабушки.
У меня есть кое-что еще, сыночек, послушай:
У меня есть жизнь.
То, будничное, которое ты ешь, как молочную лапшу. Простое, как твое собственное подростковое мясцо на хрящиках, то, от чего ты не отделаешься никогда.
"…А человечинка, она на вкус сладенькая, похожа на свининку, поймали одного зека, а у него в котелке варится похлебка — куски человечьего бедра, и на вареной коже черные волоски, и ливер, — он, зека, из кишок дерьмо повыдавил и варил…"
Пустой двор, пыль, белье, бабочки-капустницы, пахнет цикорием и луковой поджаркой, будний полдень, июль. Бессмысленно качаюсь на качелях и повторяю нараспев: "Черепаха, черепаха, черепаха…"
Потом отбрасываю слог и то ли визжу, то ли скриплю, холодея: "Черепа, черепа, черепа…"
"…А дети мальчика с велосипеда сшибли и стали убивать: двое колотили кирпичом, а один ему вбил в глаз цанговый карандаш, знаешь, такими в школе пишут. А тот мальчик очнулся и ясно так, чисто им говорит: "Вы меня не убивайте, а лучше приходите ко мне завтра на день рождения". А дети ему сказали: "Придем, пусть твоя мать пироги печет". И разбили ему череп совсем. Да так, что осталась целой только затылочная кость. Его хоронили в костюме-тройке, как взрослого, а вместо головы — ком ваты и бинты".
Воскресение, желтые с фальшивыми чашами ворота кладбища, весна, и знаешь, сыночек, ты не будешь спать месяц — потому что вон там, за деревянной кромочкой свежего гроба — горбушка чужого желтого лица, совсем желтого, как старая бумага. Отказывайся теперь ходить вместе с родителями убирать семейные могилы — а ну-ка представь, что теперь происходит с этим лицом. Говорят, они там, в земле, уже через месяц раздуваются, утробы у них лопаются — а там черви и гнилье, — и все это прямо кипит…
А с твоей мамой так тоже будет, и с тобой так тоже будет.
"…Хоронили-то, тепло было, он и поплыл весь, — вдова видит, на шее краешек галстука выбился, — полезла поправлять — ан, глядь — а это не галстук, а гнилая кожа от шеи отстала. И запах прямо сквозь доски попер…"
"…Стали чистить комнату алкоголички, видят — в углу ведро. Целое ведро живых белых вшей".
"А когда вскрыли гроб Гоголя, то увидели, что он весь скорченный, перекрученный, а сквозь сапог у него пророс длинный желтый ноготь. Его заживо зарыли, Гоголя-то…"
Желтый гоголевский ноготь, проросший сквозь истлевшую подошву, — он все прорастает, все прорастает сквозь плоть многих поколений, сквозь зареванные лики детства.
Детские разговоры о смерти, смутные рассказы о зыбучих аморфных страхах: пресловутые Красные Руки и Бледные мальчики, десятки перетекающих из губ в губы образов смерти, когда сходят с ума целыми корпусами в летних лагерях, ночные кошмары, траурные считалочки.
Лежу рядом с матерью, она вся перекошена от внимательного ужаса, в подъезде хлопает дверь, по лестнице — мучительно медленные многотонные шаги.
Вот идет Пестрый Кот…
Пестрый Кот…
За тобой Пестрый Кот.
Это глупости, ты просто спишь, просто спишь.
Просыпаюсь, слава богу, в комнате темно, встаю, ищу света, а его нет, срыву отворяю дверь, а за ней — еще одна дверь, и еще одна дверь, и еще одна дверь…
Ты просто спишь.
Просто спишь.
Всегда у домика пряничные стены, фиалки и колокольчики на тропинке Красной Шапочки. Я здесь, сыночек, за каждой красивой картинкой. Ступай, блаженно жмурясь, по железнодорожным заброшенным путям, заросшим клевером и иван-чаем. Иди, млея на летнем ветру, болтая порожней корзинкой для грибов, прекрасный день, ведь верно?
А там, через десять шагов тебя ожидает полусгнившая лошадиная голова. Она валяется между шпалами, и в огромных ее ноздрях копается трупное живье…
У нее большие зубы и коричневое на шейном срезе — или обрыве — мясо, — так что видны серые кольца дыхательного горла. Стрекочут кузнечики, и пахнет трупом и дегтем от разогретых на солнце шпал.
От меня не укрыться нигде. Ни в детской постели, ни за переплетом книги, ни в игре, ни даже рядом с матерью, — смотри, она ускользает из твоих окоченевших рук, — еще лет десять или пятнадцать — и ее повезут на кладбище, вот, расползается кожа на ее руках и лице, наливается синевой шлюпяк сползшего вкось подбородка, обнажается все, что упрятано в ее нежнейшей плоти. А может быть, это будет завтра.
Сердечный удар. Тромб в сердце. Газовая гангрена. Рак во всех великолепных разновидностях, кровоизлияние в мозг.
Или хуже: слабоумие и паралич, вонь пролежней и лопотание скорое и бессвязное, заживо труп, за которым ты будешь выносить измаранное судно и кормить ее кефиром, вставляя в слюнявый рот носик от чайничка-поилки.
Пусть так. Но только пусть — живая, живая, живая…
А вот именно этого я тебе и не позволю.
Жизни.
Взрослею, страхи меняются, я уже видел смерть, гнойное отделение больницы, рутинное рукоделие смерти — от которого просто устаешь и только исподволь удивляешься огромной несправедливости.