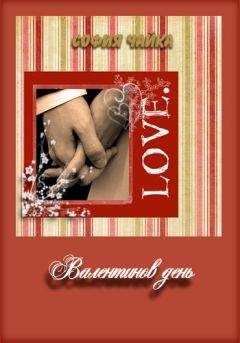После Иванова дня солнечный свет зазолотился, помягчел, зрея с каждым днем приближающейся осени. По утрам и вечерам воздух стал сперва прохладным, а затем и холодным. Теперь Лига и ее дочери делали тонкую работу только в середине дня, у окошка, а на то время, когда света было мало, оставляли простые швы и наметку.
— Это как-то связано с мистером Коттингом, да? — вслух высказала свою мысль Эдда в один из таких полуденных часов, когда они с матерью мирно занимались вышивкой.
— О чем ты? — подняла голову Лига.
Бранза и Энни ушли на рынок и к Рамстронгу, вернуться должны были не скоро.
— То, о чем ты нам не говоришь. О чем рассказываешь только госпоже Энни или мисс Данс, и то после того, как отправишь нас из комнаты. Это касается нашего отца? Ты его стыдишься? Он был плохим человеком?
— Он был никаким, — сухо ответила Лига.
— Что, не имел положения в обществе? Чем он занимался? Каким ремеслом?
Лига посмотрела на дочь долгим взором; Эдде он показался тоскливым.
— Мам, разве мне не интересно узнать про собственного отца? — Эдда попыталась придать своим словам оттенок шутливости, чтобы задобрить Лигу, однако ее улыбка осталась без ответа.
Лига молча прокладывала стежок за стежком, вопрос повис в воздухе.
— Никакого Коттинга нет, я его придумала, — наконец произнесла она. — Мисс Данс сразу раскусила меня, но все остальные поверили, поэтому я придерживалась своей выдумки. Честно говоря, я очень устала — матери нелегко скрывать правду от дочек.
— Тогда кто наш отец, если не Коттинг? Мы его знаем?
Лига одновременно пожала плечами и мотнула головой.
Эдда отважилась рассмеяться, а когда увидела, что лицо Лиги не просветлело, досадливо вздохнула.
— Истории появления детей на свет бывают красивыми и не очень. — Лига бросила на дочь предостерегающий взгляд. — Что до тебя и твоей сестры, милая, эти истории красивыми не назовешь.
Эдда закатила глаза.
— Пф-ф! Мамочка, ты только и делаешь, что рассказываешь мне красивые сказки, а я хочу знать правду, чистую правду. Рассказывай!
— Что ж, эта правда не такая уж чистая, как бы тебе ни хотелось ее услышать. — Лига откусила кончик нитки, разложила ткань на коленке и придирчиво осмотрела шов. — Насмешками ты не вынудишь меня говорить об этом. Поверь, воспоминания крайне неприятные.
— Мама, это же касается того, кто я такая и кем могу стать! — воскликнула Эдда. — Ты ведь знаешь, как все здесь устроено. Вся жизнь человека зависит от того, кто его отец.
— Только не твоя, детка, и не Бранзы. Иначе вы не выросли бы такими славными девушками.
— Выходит, он был последним негодяем… — Эдда выжидающе посмотрела на мать. — Ты говоришь о нем с такой горечью! Должно быть, ненавидишь его всей душой. Что же он натворил? Бросил тебя? Избил? Оставил без гроша?
Лига обреченно отложила шитье — траурную рясу для священника из тяжелой черной материи.
— Бранза счастлива, и не зная этого.
— Извини, я не Бранза.
— Да уж. — Короткая улыбка промелькнула по лицу Лиги, словно облачко пара коснулось холодного оконного стекла. Она снова принялась старательно прокладывать стежки.
В отличие от нее Эдда не взялась за работу — недошитое платье из белой тафты для младшей сестры невесты лежало у нее на коленях. Она ждала, и Лига, продолжая трудиться, чувствовала ее напряженное ожидание.
— Ты хочешь знать? — Голос Лиги был полон тяжелых сомнений, он прозвучал откуда-то из-за спины.
— Да! — торжествующе воскликнула Эдда и вдруг оробела.
Лига тревожно оглянулась по сторонам.
— Тогда закрой дверь, дочь моя. Не хочу, чтобы меня подслушали — например, мистер Дит.
Эдда, слегка дрожа, проворно затворила дверь и вернулась на место. Она не могла шить, не могла ничего делать, пока не услышит то, что ей нужно.
На лице Лиги, склоненном над работой, отражались прожитые годы и тяжкие раздумья. Эдда, сидя напротив матери, чувствовала себя юной и наивной. Слишком наивной, сердито сказала она себе. Ей казалось, будто бы она твердо и непоколебимо стоит посреди дороги, а навстречу ей с грохотом катится тяжелый экипаж. У нее хватит смелости, достанет мужества выслушать все, что скажет мать.
Лига вновь подняла глаза, собираясь с духом. Затем вновь взяла в руки траурное одеяние и, опустив голову, тихо, неторопливо и очень серьезно начала рассказывать о том дне, когда была зачата Эдда.
Лига подбирала простые, правильные слова — она всегда была хорошей рассказчицей. Эдда почти растворилась, от нее осталось лишь дыхание — под ровный голос матери оно все сильнее учащалось. Она чувствовала вес малышки Бранзы на руках, спиной ощущала жесткую дверь избушки, втягивала ноздрями запах сажи из печной трубы и прижималась к холодным грубым камням.
В какой-то момент Лига прекратила шить, но так и держала материю в одной руке и маленькую блестящую стрелу иглы — в другой. Она не утаила ничего: рассказала, как свершилось насилие, описала подробности каждого акта, объяснила, чем один отличался от другого, вспомнила каждую ухмылку, каждый нанесенный ей удар, каждый миг страха. Не щадя ни себя, ни дочери, Лига воспроизвела события во всей их неприглядности. Тем не менее за все время она ни разу не поморщилась, не скривила губ, не позволила эмоциям вмешаться в повествование. В эти минуты Лига была точно гонец, который докладывает полководцу о передвижениях противника и понимает, что ценность его донесения заключается в полноте и беспристрастности.
Эдда изнемогала; не было сил слышать ужасные слова, слетающие с прекрасных добрых уст матери. Она заткнула бы уши — но ведь это она сама принудила Лигу к разговору! Попросить ее умолкнуть на полуслове Эдда уже не могла. Чтобы хоть немного унять смятение, она взяла со стола обрезки черного бархата и белой тафты и принялась ножницами отстригать от них мелкие кусочки — такие мелкие, что некоторые из них рассыпались в пыль у нее на коленях. За этим занятием хотя бы руки не так дрожали.
Ровное механическое щелканье ножниц успокаивало, служило фоном для другого звука — голоса Лиги. Этот голос словно бы возводил башню, высокую башню из отвратительных созданий, похожих на мерзких жаб, неким образом решивших сбиться вместе, залезть одна на другую и выстроить это сооружение вопреки инстинкту, который понуждал их соскользнуть, рассыпаться, растечься, развалить кучу и неуклюже убраться прочь. Лицо Эдды занемело — она старалась сохранять такое же бесстрастное выражение, как мать; в горле жестким комом застряли возгласы, рвущиеся наружу.
Когда рассказ закончился, обе женщины продолжали сидеть: мать — с тканью и иголкой, дочь — положив ножницы на колени. Они не смотрели друг на друга, словно каждой из них в душе хотелось, чтобы другой не было в комнате.