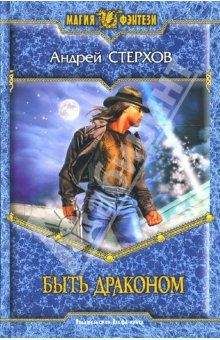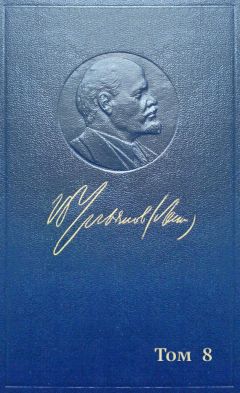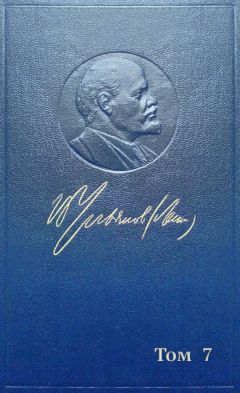— Премного благодарен, — сказал я, когда всё закончилось. — Вот не знал, что ты, Серёга, знатный эскулап. В отставку выйдешь, сможешь практику открыть.
— Я уже решил, что буду звездочётом, — сказал Архипыч в ответ и даже не улыбнулся.
А я сделал ещё один глоток, вернул ему флягу и, потянувшись к свитеру спросил:
— Ты сказал, что это не хворь, а тогда что?
— Письмо, — пояснил он.
— В каком смысле письмо?
— В самом что ни наесть прямом. Это обыкновенное письмо, написанное на унгологосе. Впрочем, может и не письмо, а записка. Одним словом, какая-то эпистола.
— Шутишь? — не поверил я.
— С такими делами не шутят, — строго ответил кондотьер. — Страшно сказать, но грех утаить: кто-то из этих двух Тёмных оставил тебе послание. Вернее, конечно, не оставил, а передал, поскольку оба были высшими магами, а не великим, стало быть, унгологоса не ведали.
У меня не было оснований ни верить словам Архипыча. Даже напротив — имелось масса причин ему поверить. И я поверил. А как только поверил, так сразу, что вполне естественно, захотел узнать, какое такое послание мне оставили. Похлопал себя осторожно (конечно осторожно, ведь ещё помнил недавнюю боль) левой рукой по правой и спросил:
— Ну и что же тут, Серёга, написано?
— А хрен его знает, — пожал плечами кондотьер. — Я, Егор, позволь напомнить, тоже ни фига не великий. Вижу вязь унгологоса, а что конкретно означает — тут извини.
— Ну и на кой мне тогда, скажи, это письмо? — развёл я руками от досады. — Какой такой в нём практический толк, если я его прочесть не могу. И ты не можешь. И никто в Городе не может. Это не письмо, получается. Это издёвка какая-то.
— Подожди, не гоношись, дай подумать.
Я дал ему только несколько секунд, а затем полез в пекло вперёд батьки:
— Слушай, Серёга, а может, срисовать, да послать факсом тому, кто сможет прочесть.
— Не срисуешь, — сходу отверг идею кондотьер. — И не сфотографируешь. Это же унгологос. Он живой, он не дастся.
Тут я уже не выдержал и разразился трёхэтажными ненормативными конструкциями.
— А ну-ка не психуй, — одёрнул меня Архипыч. — Скажи лучше, ты Леху Боханского помнишь?
— Допустим, — резко оборвав поток отборнейшей брани, ответил я. — И что с того? И высшим был, и вышел весь. Разве не он во время Гражданской нырнул в Запредельное с концами? Сдаётся, он. Или я что-то по старости лет путаю?
Хорошенечко взболтнув суровый напиток, Архипыч сделал подряд три глотка, вытер губы плечом, завинтил пробку и, сунув флягу за пояс, сказал доверительно:
— Открою тебе, Егор, тайну. Маленькую такую. Малюсенькую. За полгода до того, как нырнуть в Запредельное, Лёха великим стал.
— Да иди ты.
— Ага, было дело. Стал наш Леха великим. А потому, насколько понимаешь, имеет возможность Оттуда возвращаться. Возможностью этой, доложу тебе, пользуется регулярно, каждый день приходит. На полчасика всего, но приходит. На рассвете.
— А зачем?
— Кто ж его эмигранта знает. Полагаю, родного воздуху хлебнуть. Чутка.
— А это точно?
— Уж поверь.
— И где выныривает?
— Да здесь недалеко, полтора часа езды. Если поторопимся, успеем.
В ту же секунду Архипыч схватил мою куртку и навис надо мной в угодливой позе швейцара.
А через десять минут мы уже наматывали тягучий предрассветный час на колёса «хаммера». За рулём сидел Боря, рядом дремал Архипыч, а мне позволили развалиться на заднем сиденье. Ехали мы молча, разговаривать было не о чём, да и незачем. Я всю дорогу пялился в окно. Пялился тупо, пялился так, как пялится беззаботный пассажир, которому нет надобности отслеживать и запоминать маршрут. А помимо того ещё пытался освежить в памяти всё то, что знал о Лёхе Боханском. Оказалось, что знал я о нём до обидного мало, да и то, что знал, знал с чужих слов, а потому очень приблизительно.
Появился Лёха на свет в одной из местных деревенек в семье самых обычных людей. Не смотря на столь незавидное происхождение, мальчиком он рос необыкновенным. Грамоте сызмальства без сторонней помощи обучился, слова всякие мудрёные употреблял, каких отродясь в округе никто слыхом не слыхивал, а ещё взглядом своим нездешним здорово пугал недалёких своих односельчан. Шло время, и к восьми годам созрел Лёха до глубокого и драматичного понимания, что он ни такой как все. Должно было случиться так, так оно и случилось. Ну а дальше уже по накатанной. Если уж почуял человек за собою великий Дар, судьба ему рано или поздно прибиться. И преград этому течению по большому счёту нет никаких.
Сам ритуал уже в Городе случился, куда Лёха, сбежав от родни неродной, подался в неполные свои двенадцать. До пятнадцати на подхвате у разных знатных магов был, затем обособился и разным промышлял, в основном — магическим целением душ человечьих. В деле этом тонком и непростом достиг он, надо признать, мастерства необычайного. От Восточных Саян до Урал-Камня молва о нём в народе шла и, оттолкнувшись от Камня, назад к Саянам бежала. Ну а когда восемнадцать ему стукнуло, гражданская война по местным степям разлилась, и подался наш Лёха в Когорту Железных. Прельстило его чем-то братство светлых чародеев, поддержавших советскую власть в её руководстве движением народа по прямой линии к общему благу. А пришло время, настал час, записался Лёха и в Красную Армию. Не из глупой ажитации, не из конъюнктурной выгоды, исключительно из горячего, искреннего и непреодолимого желания поспособствовать умением своим магическим утверждению на земле всеобщего царства братской любви.
Ну а потом уже довелось Лёхе, не без этого, и отряды Колчака громить, и белочехов на запад гнать, и архаровцев атамана Семёнова — до самого Китая. И гнать-громить, по правде говоря, преимущественно не волшебством-колдовством орудуя, а шашкою казачьей. Сколько Лёха народишка всякого-разного порубил, сколько кровушки людской пролил, о том ни в сказке сказать, ни пером описать, да и просто так представить весьма затруднительно. Одно известно доподлинно: за беспримерную отвагу и преданность делу революции орден Красного Знамени за двузначным номером Лёха получил от власти комиссарской, а помимо того — ещё и наган именной. Да только радости никакой ему такой почёт не доставил. Говорят, загрустил Лёха через зиму на лето. До того загрустил, что как-то раз над телом очередного беляка краснооколошного, который на поверку вовсе и не беляком никаким оказался, а совсем даже загулявшим инженером-геологом, заплакал от обиды герой наш доблестный. Горько-прегорько заплакал. Так горько, как только и могут плакать одни только герои доблестные. А потом растёр слёзы стыдные по плохо бритым щекам, и сказал, к товарищам боевым обращаясь: что же это за любовь такая братская, царство которой шашкою да пулей утверждать приходится? А как только произнёс он эти слова вслух, так сразу во всём и разуверился. Потому как жалость, сука буржуазная, она вере революционной как раз и есть самый лютый и наиглавнейший враг.