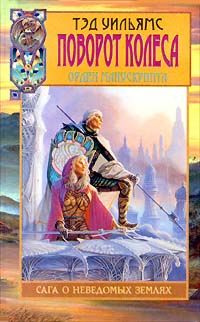Солнце, которое весь день не показывалось из-за туч, наконец укатилось за край земли, оставив после себя сгустившуюся тьму. Они ехали дальше, и дождь становился все холоднее, так что зубы путников начали стучать, а пальцы неметь. Саймон уже усомнился было в правдивости медника, когда наконец они увидели дорожную станцию.
Это был всего лишь ветхий сарай — четыре стены и крыша с дырой для дыма, вместо очага — круг из врытых в земляной пол камней. Кроме того, снаружи был навес, чтобы привязать лошадей, но Саймон, расседлав, привязал их в небольшой рощице, где было почти так же сухо, да к тому же они могли бы щипать редкую травку.
Последний гость станции — Саймон решил, что это был тот самый медник, казавшийся человеком порядочным и добросовестным, — перед уходом принес свежий запас дров. Они, правда, не успели еще высохнуть, так что разжечь огонь было нелегко. Саймону трижды пришлось начинать все сначала, после того как тлеющий трут с шипением гас, соприкоснувшись с мокрыми ветками. Но зато потом Мириамель приготовила рагу из моркови, луковиц, муки и сушеного мяса, извлеченных из ее запасов.
— Горячая пища, — заявил Саймон, облизывая пальцы, — дивная вещь. — Он поднял миску и слизнул со дна последние капли подливки.
— У тебя рагу в бороде, — сурово сказала Мириамель.
Саймон распахнул дверь сарая, высунулся наружу и набрал пригоршню дождевой воды. Сделав несколько глотков, он употребил оставшуюся воду на то, чтобы стереть жир с усов.
— Так лучше?
— Я полагаю. — Мириамель принялась устраивать свою постель.
Саймон встал, удовлетворенно поглаживая живот, потом пошел, стащил с седла свою скатанную постель, вернулся и расстелил ее поближе к Мириамели. Она молча смотрела на это; потом, не поднимая глаз, оттащила свою в сторону. Саймон поджал губы.
— Будем сторожить? — мрачно спросил он. — На двери нет замка.
— Это было бы разумно. Кто первый?
— Я. Мне о многом надо подумать.
Его тон наконец заставил Мириамель поднять глаза. Она смотрела на Саймона настороженно, словно боялась, что он внезапно сделает что-нибудь страшное.
— Очень хорошо. Разбуди меня, когда устанешь.
— Я уже устал. Но и ты тоже. Спи. Я подниму тебя, когда ты хоть немного отдохнешь.
Мириамель без возражений снова устроилась на полу, плотно закутавшись в плащ, прежде чем закрыть глаза. В сарае стало тихо, только дождь мерно барабанил по крыше. Саймон долго сидел неподвижно, наблюдая, как мерцающий свет играет на бледном, спокойном лице девушки.
В какой-то момент, вскоре после полуночи, Саймон вдруг понял, что клюет носом. Тряхнув головой, он сел и прислушался. Дождь перестал, но вода все еще стекала с крыши сарая, булькая в образовавшихся лужах.
Он подполз к Мириамели, чтобы разбудить ее, но остановился, глядя на принцессу в красноватом свете угасающих углей. Она спала неспокойно; плащ, служивший ей одеялом, лежал в стороне, рубашка выбилась из мужских штанов, обнажив полоску белой кожи на боку. Саймон почувствовал, что сердце перевернулось у него в груди. Ему до боли захотелось коснуться этой белоснежной полоски.
Он потянул руку. Прикосновение было легким, как взмах крыла бабочки. Саймон ощутил нежную, прохладную кожу, покрытую мурашками — в сарае было прохладно.
Мириамель сонно заворчала и резко махнула рукой, словно отгоняя какую-то ползучую тварь. Саймон быстро отодвинулся.
Некоторое время он сидел неподвижно, чувствуя себя вором, которого застали на месте преступления. Наконец, немного успокоившись, он снова протянул руку, но на сей раз осторожно потряс ее за плечо.
— Мириамель! Просыпайся, Мириамель!
Она буркнула что-то невнятное и перевернулась на другой бок, спиной к нему. Саймон опять тряхнул ее, уже сильнее. Она протестующе забормотала, ее пальцы тщетно пытались нащупать плащ, словно он мог послужить защитой от жестокого духа, досаждавшего ей.
— Вставай, Мириамель, твоя очередь сторожить.
Но принцесса спала действительно крепко. Тогда Саймон наклонился и сказал ей в самое ухо:
— Просыпайся, пора! — Ее волосы касались его щеки. Мириамель только чуть улыбнулась, как будто кто-то решил подшутить над ней. Глаза ее оставались закрытыми. Саймон медленно опустился и лег рядом с ней. Несколько долгих мгновений он смотрел на нежный контур ее щеки, высвеченный угасающим костром. Потом бережно обнял ее за талию и придвинулся ближе: теперь его грудь касалась спины девушки. Ее волосы все еще щекотали его щеку. Мириамель издала какой-то звук, показавшийся Саймону вполне довольным, шевельнулась еще раз, слегка подтолкнув его спиной и снова затихла. Саймон задержал дыхание, боясь, что она все-таки проснется, боясь, что сам может чихнуть или кашлянуть и тем разрушить до боли прекрасное мгновение. Всем своим телом он чувствовал ее тепло. Она была такой маленькой, гораздо меньше него; ему хотелось свернуться вокруг и защищать ее. Он подумал, что хотел бы вечно лежать так.
Они лежали, прижавшись друг к другу, как два продрогших котенка. Необходимость стоять на часах была забыта — просто уплыла из головы Саймона, как лист, унесенный сильным течением реки.
Саймон проснулся в одиночестве. Мириамель была снаружи, чистила свою лошадь. Потом она вернулась в сарай, где они и позавтракали хлебом и водой. Она ничего не сказала о прошедшей ночи, но Саймону показалось, что в ее поведении стало немного меньше напряженности, как будто какая-то часть льда растаяла, когда они прижимались друг к другу во сне.
Еще шесть дней они ехали по Речной дороге, которую монотонные дожди превратили в полосу сплошной грязи. Была ужасная погода, а на дороге по большей части было так пустынно, что боязнь Мириамели быть узнанной слегка уменьшилась, хотя она по-прежнему прикрывала лицо, когда они проезжали через маленькие городки вроде Брегшейма или Гарвинсвольда. Ночи они проводили в придорожных сараях или под протекающими навесами у изображения святых. Каждый вечер после ужина они сидели у огня, и Мириамель рассказывала о своем детстве в Меремунде. В ответ он вспоминал дни, проведенные среди судомоек и горничных; но проходила ночь за ночью, и Саймон все больше и больше говорил о докторе Моргенсе — о его покладистом характере и редких внезапных вспышках ярости, о его презрении к тем, кто не задает вопросов, и восхищении дивной сложностью жизни.
В ночь, когда они прошли через Гарвинсвольд, Саймон неожиданно обнаружил, что плачет, вспоминая рассказ доктора о пчелином улье. Мириамель, пораженная, молча смотрела, как он пытается совладать с собой. В ее взгляде было что-то такое, чего Саймон не видел никогда Прежде, и хотя первым его чувством был жгучий стыд, по правде говоря, он не заметил презрения в выражении лица принцессы.