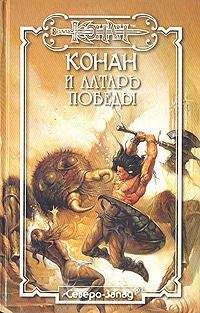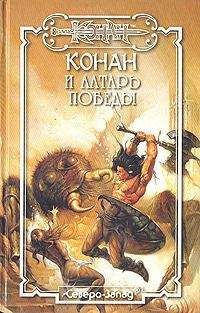— Смотри, смотри на меня, красавчик! Смотри в глаза!.. Может быть, ты увидишь в них что-нибудь!.. Может быть, в твоей бычьей голове от тряски шевельнется что-нибудь, и ты поймешь!..
Конан хотел было движением плеч стряхнуть ее с себя, как назойливое насекомое, но что-то заставило его помедлить и послушно вглядеться в желтовато-прозрачные, как слюда, круглые глаза под трясущимися, коричневыми веками. Вполне безумные старческие зрачки… Но что-то в них было еще помимо безумия. Что-то шальное, что-то знакомое, но не поддающееся словам…
— Ладно! — Он сбросил морщинистые ладони со своих плеч, так что старуха, потеряв равновесие, едва не шлепнулась на пол.— Я понял. Наньяке не нужны души спятивших с ума. Но у меня есть еще второй вопрос! Может быть, хоть на него ты сумеешь ответить толком. Отчего ты плясала на кладбище? Разве Анита не была твоей внучкой? Разве она не любила тебя, не ухаживала за тобой?..
— Анита любила меня! А уж как я-то люблю ее, мою славную девочку, мою утреннюю синичку!..— Старуха снова засуетилась. На этот раз она стала зачем-то осматривать подол своего платья и хлопать себя по карманам.— Еще бы мне не плясать! Еще бы мне не радоваться! Ведь я теперь не одна буду, а с ней, с девочкой моей ласковой, с хлопотуньей моей ненаглядной!..
Видимо, Анита ошиблась. Старуха была не наполовину безумной, но полностью, с ног до головы, охваченной старческим слабоумием. Беседовать с ней дальше не имело никакого смысла.
— Прощай! — Конан повернулся к выходу.— Славно мы с тобой поговорили! Но если ты все-таки вспомнишь и захочешь помочь мне… приходи! Я остановился пока в доме Аниты. Только не слишком поздно! Нынче ночью, как только стемнеет, я собираюсь потолковать с глазу на глаз с наньякой. Чует мое сердце, что разговор этот будет последним.
— Последним, последним, мой красавчик! — закивала старуха.— В этом можешь не сомневаться!..
Конан чуть было не спросил у нее, для кого он будет последним, для него или для воющего отродья, но вовремя прикусил язык. Что толку задавать вопросы тому, чей рассудок помрачен безвозвратно!..
— А меня не жди, не жди, заезжий красавчик! — запричитала она ему в спину.— Сегодня я отправлюсь в другое место! Вот только приберу свою хижину, переоденусь во все чистое и отправлюсь!..
* * *
День казался бесконечным. Солнце ползло по небу медленнее улитки. Конан не знал, чем занять себя в ожидании ночи. Он не мог ни спать, ни просто лежать, бездумно накапливая силы.
Он принялся было затачивать широкое лезвие своего меча, но вскоре бросил это занятие. Бесполезно! Удары меча для наньяки все равно, что касания легкого ветерка, если не меньше. Если и можно ее победить, то иным способом. Но вот каким?..
С наступлением долгожданных сумерек он вышел во двор и присел на крыльцо, настороженно ловя слухом все звуки отходящей ко сну деревни. Впрочем, не ко сну, конечно, но к привычному кошмару, к обмираниям и спазмам тоскливого ужаса за закрытыми ставнями…
На этот раз наньяка изменила своему правилу возникать из ниоткуда с наступлением полной темноты. Вот уже звезды высыпали и разгорелись, вот уже луна вынырнула из-за острых макушек елей и плавно всплыла до середины небосвода — призрачной гостьи все не было.
Неужели так испугал ее вчера Конан? Вряд ли. Скорее, не лишенная сообразительности тварь прибегла к какой-то хитрости.
Догадка Конана подтвердилась, лишь только он решил покинуть двор и прогуляться вдоль замершего селения. Стоило ему миновать три дома, как он заметил знакомый мерцающий силуэт под окнами четвертого. Наньяка появилась, как и обычно, но она перестала выть! Тихо, как тень от облака, как лунный блик, ощупывала она бесплотным телом своим и колеблющимися отростками все выступы и щели избы. Интересно, отчего эта здравая мысль раньше не приходила в ее призрачную голову? Отчего она всегда подвывала, громче, чем целая волчья стая, если в тишине, усыпив бдительность обитателей дома, проникнуть вовнутрь несравненно легче?..
Впрочем, когда Конан приблизился к ней на расстояние двадцати шагов, он услышал кое-какие звуки. Но очень слабые. Наньяка не стучалась в двери и в ставни, но тихонько скреблась, она не выла и не упрашивала громогласно, но что-то шептала вкрадчиво, Конан не стал вслушиваться, что именно она обещает или о чем просит несчастных, затаившихся за стенами обитателей дома. Он вытащил из ножен свой меч, пусть и не способный рассекать плоть признака, но спокойным холодом рукояти, зажатой в ладони, придающий уверенность, сделал два шага вперед и громко окликнул:
— Эй, ты! Ненасытное отродье Нергала! Подойди-ка ко мне!
Наньяка мгновенно обернулась и двинулась в его сторону, словно только и ждала его зова. На этот раз киммериец решил не опускать глаза. Что толку, если он будет махать мечом, как в прошлый раз, упираясь взглядом в собственные ступни! В лучшем случае наньяка опять ускользнет от него, в худшем — опять подставит под меч чью-нибудь грудь или спину.
Конан ни на миг не забывал о ядовитых лучах, которые тварь испускает из своих зрачков. Он все время держал в уме, что сейчас увидит нечто столь страшное, что не в силах вынести сердце обыкновенного человека. И все-таки не опускал глаз. Ведь безумная бабушка Аниты смотрела в лицо наньяке, и осталась, при этом, жива! Он был уверен, что странная старуха не пряталась под кровать, не творила магические заклинания, не упиралась выцветшими глазами в пол. Ее спасло нечто иное. Может быть, шальной вызов в зрачках?.. Или смех ее, нелепый и сумасшедший?..
Наньяка приближалась. Она не шла, но плыла, плавно колыхаясь всем телом. Вначале Конан не мог, как следует рассмотреть ее лицо, вернее, то, что находилось в верхней части призрачно-мерцающей головы. Лишь когда между ними оставалось не больше пяти шагов, он увидел… Нет, открывшееся ему нельзя было назвать уродливым или запредельно страшным. Наверное, по каким-то — нечеловеческим — меркам лицо ее можно было назвать красивым: удлиненный овал, тонкие черты, широко расставленные глаза. Но черты эти находились в беспрестанном движении — колебались, извивались, струились, перетекали одно в другое. Тяжелые веки над лунными радужками глаз вдруг утончались, совсем исчезали, углы глаз растягивались к вискам, горбинка на носу исчезала, сам нос удлинялся, нависал над верхней губой — вот уже совсем другое лицо… Оно держится три-пять мгновений, а затем перетекает в нечто третье, совсем не похожее на предыдущее… Единственное, что оставалось неподвижным в этом отвратительно текучем облике, были зрачки глаз. Четкие, жесткие, пристальные.
Наньяка приблизилась почти вплотную. Расстояние между ними теперь было не больше локтя. Она была одного роста с ним, и поэтому зрачки ее приходились на уровне его глаз. Впрочем, еще прошлой ночью он заметил, что она умеет менять свой рост, то вытягиваясь, то становясь приземистой и широкой. От нее веяло холодом, но не спокойным холодом зимы или высокогорья, но холодом незнакомым, небывалым, пронзительным, Казалось, если бы удалось сжать в один комок, в одну фигуру высотой в четыре локтя все самые злые морозы Асгарда или Ванахейма, все вьюги, всю ледяную застылость их бескрайних равнин — получилось бы нечто вроде этой нелюди.