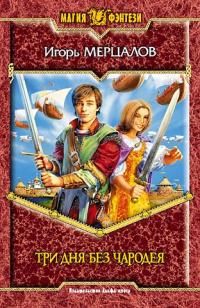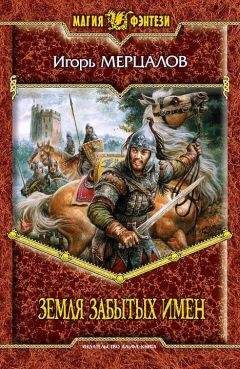— Прекратить стрельбу! — закричали дружинники. — Парня не заденьте!
В мгновение ока проскользнул Упрям под желтым брюхом и ударил в основание шеи. Громоподобный рев едва не оглушил его, но тотчас смолк. Содрогнувшись всем огромным телом, чудовище полетело вниз.
Второй дракон не видел участи собрата. Наудачу извергая пламя, он ринулся напролом сквозь корабельный строй, со страшной силой хлеща хвостом по бортам. Но многочисленные и глубокие раны уже затмили его сознание, и он со всего маху врезался башкой в грудь подвернувшейся купеческой ладьи — самую прочную часть судна. Доски, конечно, затрещали и щепа полетела, но хвостом их дробить одно дело, а лбом — совсем другое. Оглушенный дракон пал с ночных небес.
Радостные крики разнеслись над армадой.
— Молодец, малый! Даешь, Упрям!
— Вниз, — приказал князь, не дожидаясь, пока угаснет восторг маленькой победы.
Главная работа еще впереди.
* * *
— Что это было? — спросил Баклу-бей, наблюдая гибель последнего дракона.
— Отсюда не разглядеть, — пожал плечами Беру. — Что делать дальше, венценосный?
— Готовиться к достойной смерти, — просто ответил хан.
Беру посмотрел на него с удивлением.
— Но, солнцеликий, наше войско все еще вчетверо превосходит неприятельское. И даже будь наоборот, я бы поставил на наших бесстрашных бойцов…
— У нас кончилась магия, мой верный Беру.
Султан помолчал и ответил:
— Что ж… мне давно хотелось узнать, сколько все-таки силы в моих руках. Я уже много лет сажусь на коня, чтобы проехать по трупам врагов, убитых не мной. И, премудрый, я позволю себе повториться: нас по-прежнему больше.
— Зато они сверху, — вздохнул хан, и, сложив руки за спиной, побрел к шатру. — Идем со мной.
Он отослал прочих, а когда слуга наполнил кубки чурайским вином, прогнал и его.
— Выпьем, Беру. Выпьем за участь, достойную великих мужей. Ты всегда нравился мне, и я хочу разделить последние вздохи именно с тобой — храбрым, умным, своевременно честным и достаточно верным.
— Прости, повелитель, но мне непонятно твое настроение, — осторожно сказал султан, смущенный необычной похвалой, и чуть пригубил драгоценный напиток.
— Я, наверное, мог бы стать великим, — сказал ему Баклу-бей, жестом пресекая возражения. — Великим дано предчувствовать час своей гибели. Во всяком случае, великим поэтам… Правители, как правило, лишены этого дара. Они могут сколько угодно ловить удачу за хвост, но обязательно настанет день, когда они забудутся. И это будет их последний день. Я же предчувствовал гибель уже со дня исчезновения Хапы Цепкого.
— О венценосный…
— Беру, я хочу отдать тебе приказ. Возможно, последний, но ты все равно должен выполнять его. Отныне и навсегда независимо от того, как закончится эта битва, называй меня Ханом Безземельным.
Султан поставил чашу на дастархан и склонил голову.
— Да ты пей, дружище, пей! — улыбнулся Баклу-бей. — Там справятся и без нас.
— Неужели нет никакой надежды, хан…
— Не думаю, — сказал бывший беглый султан, зачерпывая пригоршню шербета. — Вместе с фигурами драконов, которые берег я многие годы для самого крайнего случая, Хапа Цепкий передал мне такие слова Советника: «С этой магией только небо сможет остановить тебя». Теперь уже нет у меня доверия ни к Хапе, ни к Советнику. Иной правитель на моем месте счел бы это достаточной причиной, чтобы забыть о пророчестве. Однако оно сбывается. Наши враги ближе к небу. И небо благоволит им. Впрочем, если тебе совсем уж не сидится… Сходи, повоюй. Ты ведь хотел узнать, сколько, силы в твоих руках?
Беру с готовностью вскочил на ноги.
— Я вернусь с победой, повелитель… Хан Безземельный. Я принесу тебе эту землю!
— Буду рад, если ошибусь в своих предчувствиях. Как знать, быть может, именно… а, неважно. Но если мы выживем сегодня, я в ближайшее время постараюсь избавиться от прозвища, о котором велел тебе напоминать.
Султан Беру поклонился и выбежал из шатра. Хан хлопком призвал слугу.
— Проследи, чтобы мои жены выпили отравленное вино, если враги ворвутся на стоянку, — велел он. — И насыпь яду вот в эту чашу, — указал он на кубок Беру.
Как бы ни сложилось будущее, готовым нужно быть ко всему. И к поражению, и к победе. Только предусмотрительность делает «видимо, великих» людей истинно великими.
* * *
Корабли пошли на посадку на восточном склоне Долины Цветов, густо поросшем зеленью. Купы деревьев здесь островами выдавались над морем кустарника, окруженного сочной травой. Как и ожидал князь, ордынцы стали стягивать разрозненные сотни воедино, сходясь перед зарослями, по меньшей мере, двадцатитысячной толпой.
Луна вот-вот должна была скрыться за горами, но пока что света хватало.
— По десятку с каждого судна, — напомнил он.
Ордынцы видели, как с зависших кораблей сбрасывают веревки, как по ним спускаются воины. Наилучший миг для удара…
— Не торопиться, — невольно понизив голос, бросил Велислав.
Его приказы передавались только факелами — среди множества огней кочевники не разглядят точного смысла знаков, а вот гудки славянских рожков знают почти наверняка. Все, что им следует видеть, — это движение людей по веревкам; слышать — шум высадки; думать — что сейчас наилучший миг для удара.
И ордынцы клюнули. Спешенные воины выстроилась клиньями и помчались сквозь заросли вверх по склону. Скорее, скорее, пока высадка не завершилась и противник не построился за непробиваемой стеной щитов!
— Стреляй!
Более мощные славянские луки, бившие к тому же сверху вниз, сразу достали до кочевников. Это должно только успокоить их: славяне защищаются в том положении, в котором застигнуты врасплох…
Якобы.
Вот и снизу полетели стрелы. Десять тысяч, двадцать тысяч, сто тысяч стрел… Тысячи ног крушили заросли; стаптывали травы, сминали кустарники. Не хуже саранчи Орда опустошала склон. Но славяне притаились за бортами, а высадившаяся на землю полутысяча, сойдясь, выставила два ряда щитов. Потери были, но в сравнении с мощью смертоносного ливня — просто незаметные.
Ближе, ближе…
— Сейчас? — спросил Упрям, который в своем котле висел рядом с князем, прячась за горделивым носом ладьи.
— Нет. Ждем, еще ждем…
Упрям на миг выглянул:
— Шагов четыреста… и сотня стрел в носу ладьи.
— Я знаю, — спокойно ответил князь. — Ждем.
Почти приземлившиеся корабли занимали площадку саженей двести шириной. Двадцатитысячное войско валило гораздо более широкой полосой, ощерившейся зубьями клиньев, которые, впрочем, то и дело распадались сами собой из-за сложности подъема.