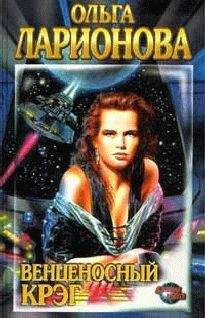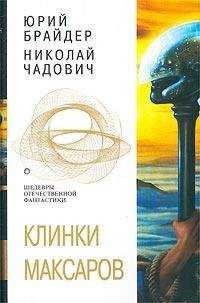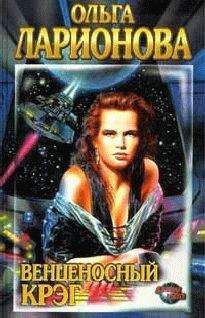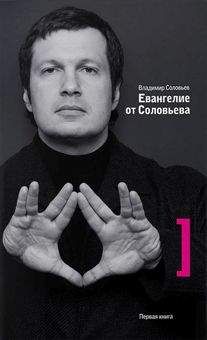Он покружил еще немного вокруг холма, набрел на какие-то аккуратные грядки, на которые несколько доброхотов таскали воду из умывального чана сразу видно было, что делалось это без принуждения, в охотку. Понемногу все потянулись на покой; Харр намеренно замешкался, чтобы дать остальным улечься, – нужно было пристроиться с краю, чтобы не набраться от подкоряжников лесной живности. Напарник вроде бы ждал его – сидел на корточках, оберегая два крайних места. Харр благодарно похлопал его по плечу, улегся; подождал немного – не заговорит ли? Нет, молчал. Видно, и говорить-то бедняге было не о чем. Харр глазом не успел моргнуть, как тот уже храпел.
– Э-э, – растолкал его странствующий рыцарь, в своих одиноких ночевках привыкший к благодатной ночной тишине. – Знаешь, какая разница между тобой и козлом?
– Ну?
– Козел, когда храпит, двумя бородами трясет, а ты – одной.
Напарник некоторое время молчал, недоуменно почесывая голый подбородок, потом наконец до него дошло, и он по-детски, радостно заржал – тоненько, точно жеребенок; хохотнули – сдержанно, в кулак, соседи; шепоток полетел все дальше и дальше, и где-то не удержались – грянул громовой хохот, покатившийся обратно, к Харру; теперь гоготали все до единого, даже те, кто проснулся и не знал, отчего родилось веселье, – слишком туго натянулась струна, сдерживавшая этих натужно-молчаливых людей, и теперь она лопнула, и ее звон отдавался в повизгивании, до которого дошел кто-то, уже пребывающий на грани истерики. Смеялись вдосталь, как пьют воду после дневного перехода через сухую пустошь. Понемногу стихло. Кое-кто, переступая через лежащих, пробрался к выходу и сиганул в траву, сберегая единственные порты; Харр прикусил язык, твердо наказав себе больше в роли весельчака-рассказчика не выступать. Чай, не на пиру.
А ведь впервые на этой земле людей повеселил…
С этой мыслью, невольно ласкающей его самолюбие, он и отошел ко сну, уже не понимая, грезится ему – или действительно как из-под земли выросла там, за редкими стволиками, слабо озаренная фигура в венце из голубых пирлей; она остановилась напротив него и долго еще стояла, словно могла разглядеть его в полной темноте.
Наутро, за сытными бобами с бодрящей травкой, он ощутил на себе доброжелательные взгляды – так на пирах после удачной песни на него поглядывали с благодарностью и ожиданием – а ну-ка еще… Харр понимал, сейчас – не время. Молчал, как все. Но подошел косноязычный с узелковой перепояской, ласково проговорил:
– Ты силен, человече; не возьмешься ли воды натаскать, чтобы слабых не утруждать?
– Отчего же нет, дело нехитрое, – так же благодушно отозвался Харр, про себя ухмыльнувшись: мягко стелешь ты, братец, а как сейчас остальных на рытье погонишь?
Но, к его удивлению, никто на работы никого не гнал и не принуждал. Все поднялись неспешно, но уже молчаливо, потягиваясь, напивались впрок студеной водой, сохранившей ночную свежесть; кое-кто даже подался в травы – пощипать каких-то красноватых листиков, показавшихся Харру чересчур сладкими. А кто-то уже работал.
К Харру подошел сутулый подкоряжник – во всяком случае, Харр так решил, поглядев на его босые ноги, явно не знавшие обуви уже много лет.
– Пошли по воду, что ли?
Они подхватили коромысла с топкими сетками, плетенными из какого-то волоса, в которых помещались круглодонные бадейки, изнутри мазанные молочно-белым окаменьем. По тому, что трещины замазывались уже серым и голубым, Харр понял, что здесь своего собственного зверя-блева не держали, а окаменьем разживались за счет того, что приносили беглые. Они двинулись по едва заметной тропе – сразу видно, что осваивать этот холм начали совсем недавно. Трава становилась все выше и выше, пока не скрыла идущих с головой, несмотря на изрядный рост обоих. Харр заскучал – идти-то оказалось далековато, а на обратном пути не отдохнешь: на круглое донышко бадейку не поставить. Он принялся считать шаги, несколько раз доходил до сотни, сбивался… Когда появилось желание начать ругаться вслух, впереди послышались голоса. Тропа стала шире, потом резко кончилась, и они вышли на обширную пустошь, посреди которой возвышалась небольшая грудка камней, из которых и бил источник.
Воду здесь берегли – зелененые желоба отводили ее в чаны, колоды и врытые в землю кувшины; внимательный молодой м'сэйм в одной набедренной повязке бродил, высоко задирая ноги и осторожно переступая через желоба, отворял и закрывал заслонки, пускающие воду то в одну, то в другую емкость. Слева полукругом – располагались густо зеленеющие грядки, над которыми возились рослые мужики, не иначе как по отбору; справа две загородки образовывали проход, по которому подводили на водопой тех мелких безрогих скотинок, которых Харр приметил в степи еще вчера.
Харр со своим спутником присели на землю, отдыхая и поглядывая, когда же им укажут, откуда воду брать. Наконец указали, и опять же никто не подгонял, можно было бы просидеть и еще сколь угодно. Но подкоряжник направился в обратный путь, чуть покачивая полными бадейками, и Харр двинулся следом, успев прихватить по дороге две приглянувшиеся ему рогульки. Путь обратно, как он и ожидал, оказался не таким приятным, и Харр, пройдя примерно его половину, окликнул своего проводника:
– Эй, погоди-ка малость! – Тот послушно остановился. – Подержи мое коромысло.
Он освободился от своей ноши, чуть отступя от тропы, глубоко вбил в землю прихваченные колья с разветвлениями на концах.
– Давай коромысла сюда, отдохнем.
Подкоряжник с удивлением воззрился на Харрову затею – видно было, что здесь никто не проявлял никакой выдумки, просто делали свою работу от зари до зари, и вся недолга.
– Однако ты взял, не спросясь, – укоризненно проговорил Харров сотоварищ по трудам праведным, – неладно это.
– Я ж голос подать не решился! – возразил Харр. – У вас тут все молча делается…
– Человецы молчат, потому как говорить не об чем, – отрезал подкоряжник. – О суетном за работой болтать грех, а о божественном только навершие ведают.
– Наверший – это который за вечерней трапезой блекотал?
– Ты в грех меня вводишь, – сурово констатировал подкоряжник. – По уставу нашему нельзя гневаться на ближнего.
– А смеяться над ближним можно?
– Тоже грех.
– Однако вчерась ты ржал, как жеребчик, да и другие запрету на себя не клали…
– Общий грех.
Не понравился Харру его тон – переборщил водонос со своей суровостью, от нее так и несло лицемерием.
– Слышь-ка, босоногий человече, а ты сам часом в навершие не метишь?
– Наверший – это кто много лет в Предвестной Долине провел, по каждому году – узел на опояске. Однако засиделись мы. Нам еще одну ходку делать, с бурдюками для питья.