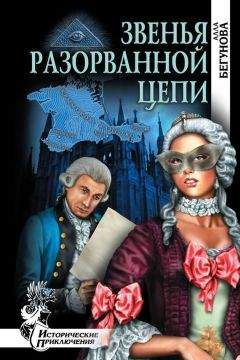Долговязый Еме вдруг начал приплясывать на месте, но только не от холода: слоев шерстяной ткани под мундиром было вполне достаточно для согрева при бодрой ходьбе от одной жаровни до другой.
– Слышь, друг, я того… Живот у меня скрутило, сил нет. Я мигом, а ты пока тут постой, подожди! – бормочущей скороговоркой выпалил мой напарник и юркнул в проулок, исчезая среди ночных теней.
Вот оно что. Трус. Жалкий. И обыденный, как умывание по утрам. Ну что ж, пусть прячется, только я тоже не буду стоять столбом посреди улицы.
Даже ночная темнота никогда не бывает одинаково непроглядной. Где-то она припорашивается пеплом лунного света, где-то разбивается бликами факельных огней, превращаясь в узорчатый ковер, частью которого очень легко стать, если чуточку плотнее вжаться в чехарду причудливых пятен.
Сделать шаг вперед и в сторону, поближе к стене дома, но не прислоняться, чтобы тень на каменной кладке не оказалась гуще, чем должна быть. Замедлить дыхание, чтобы облачка теплого воздуха, вырывающегося из ноздрей, не висели вокруг мутной кисеей. Расслабиться, отбросить прочь все мысли и просто… ждать.
Шаги шуршали совсем тихо, словно тот, кто шел, стопой обнимал каждый камень брусчатки, на который наступал. Осторожно и малозвучно, но не настолько, чтобы не было заметно: прохожий мечется от одной стороны улицы к другой, стараясь, впрочем, не покидать пятна теней.
Тот самый воришка? Наверняка. Спина согнута дугой и напряжена, руки чуть расставлены в стороны, а не прижаты к телу, что выглядело бы в холоде ночи куда естественнее. Не теряет бдительности? Молодец. Но он пройдет мимо меня, даже не вздрогнув.
Так, может, и позволить ему пройти? Одним ничтожным преступником больше, одним меньше – никакой разницы. Все равно у Боженки этого добра никогда не переводится. В лице и голосе командира патруля ведь не читалось особого рвения, когда он отдавал приказ. Да и отправляя меня вместе с Еме, он заранее знал, что долговязый трус никого ловить не станет, а я…
– Торопишься сбыть украденные деньги?
Воришка застыл на месте, услышав вопрос, прозвучавший отовсюду и ниоткуда, и крутанул головой, пытаясь определить мое местоположение. Впрочем, зря: звуки, затейливым эхом отразившиеся от стен домов, укрывали меня не менее надежно, чем тени.
– Ты кто?
Отсвет далекого фонаря заискрился на серебряной медвежьей голове, когда я шагнул навстречу невысокой фигурке. Мальчишка. Или девчонка, что, в общем, не так и важно. Голос юный, слегка простуженный и… смелый.
– Городская стража.
– Ты непохож на стражника!
Отодвигает правую пятку назад. Готовится к бегству или к нападению? В любом случае если и побежит, то в объятия командира патруля. А если решит прорываться с боем…
– Зато ты очень похож на вора.
Он оттолкнулся и прыгнул, стараясь проскользнуть у меня под руками, но наткнулся на мое колено и откатился назад. Следующий бросок последовал без паузы, как и следовало ожидать от молодого, не чувствующего пока еще усталости тела, и теперь отступил уже я, но не от натиска, а заметив стальной отблеск рядом с кистью правой руки воришки.
Что-то небольшое и, похоже, искривленное. Все верно, незнатным горожанам запрещают носить ножи, лезвие которых длиннее, чем две трети ладони. Правда, в соответствующем уложении ничего не сказано о том, имеется в виду лезвие прямое или изогнутое, которое как раз умещается в заданные размеры, но вреда способно причинить намного больше.
Решив, что я осторожничаю, не желая напороться на клинок, воришка угрожающе рассек воздух крест-накрест, наступая на меня, и замахнулся снова, но закончить движение не успел, потому что наперерез его оружию рванулось мое предплечье, где под шерстяным полотном мундира был закреплен чешуйчатый наруч, отлично подходящий для ловли кривых ножей. Коготь клинка попал между стальными пластинами и потерял свободу на короткое мгновение, которого мне хватило, чтобы увлечь противника вслед за его же рукой, благо воришка использовал, как и многие горожане, эдакую смесь ножа и кастета. Спору нет, выбить такое оружие трудно, но временами бывает куда разумнее отпустить, чем продолжать удерживать.
Он крутанулся на месте, оказываясь спиной ко мне и с рукой, вывернутой так, что любые дальнейшие движения привели бы только к приступу острой боли в связках, но не растерялся, затараторив:
– Эй, ну я ж пошутил, я ж резать тебя и не собирался! Отпусти, а? А я тебе все, что набрал, отдам. Вот Боженка свидетельница, отдам! Только отпусти…
Свободной рукой он залез за пазуху, доставая кошель, но я, не зная наверняка, что прячется в складках воровской одежды, надавил на вывернутую руку сильнее. Ловкие в деле обирания беспечных прохожих пальчики скрутило судорогой, быстро спустившейся к плечам, и монеты глухо зазвенели, рассыпаясь по брусчатке. Медные, поистершиеся кругляшки. И это весь улов? Негусто. И недостаточно много, чтобы польститься на откуп.
– Отпусти-и-и-и… Ты же не такой, как они, я же вижу! Ты не такой…
Не такой.
Я не брезгую деньгами, но не могу, как командир патруля, все же добравшийся до нас с воришкой, сказать: «Отпусти его», подождать, когда перестук шагов убегающего парнишки затихнет в проулке, наклониться, собрать просыпавшиеся монеты, затянуть завязки покрепче, спрятать кошель в карман мундира, а потом как ни в чем не бывало пожурить трусливого Еме. Не могу поставить всем пива, расплачиваясь дважды сворованными деньгами и старательно удерживая на лице маску равнодушия, через которую все же пробивается неудовольствие тем, что шальные деньги не обрели единственного хозяина. А как же иначе? Слишком много глаз сосчитало медяки от первого до последнего, стало быть, надо залить чужие взоры поскорее да пощедрее.
Командиру было откровенно жаль тратить даже эти гроши, но неписаные правила требовали поделить добычу поровну между всей стаей. Поделить и бросить на меня слегка укоряющий взгляд: мол, ты же мог прибрать весь кошель, так почему медлил? Целых одиннадцать монет. Не состояние, конечно, но на пяток дней сытного столования хватило бы, а так всего каждому по кружке да по неясному воспоминанию, выветривающемуся быстрее хмеля.
Целых одиннадцать монет.
Еще несколько часов назад я мог получить не меньше, только полновесным серебром, а то и с примесью золота, если бы из лабиринта головы Атьена вдруг не выбралось на свет божий желание в кои-то веки исполнить все буквы закона. И что от меня требовалось? Лишнюю минуту подержать в себе неуместные чувства, а потом смело подниматься на ступень, навсегда возносящую над необходимостью думать о днях завтрашних и прошлых. Жалкую минуту…
А пиво оказалось дрянное. Разведенное настоем бражника, чтобы надежнее бить в головы, горькое, зато дармовое и тем искупляющее прочие свои недостатки. Долговязый трус опорожнил свою кружку быстрее всех, юнец втихаря оставил наполовину недопитой, когда настала пора выбираться из-под низкого потолка трактира на вольный воздух. Я вливал в себя слабо пенящуюся жидкость понемногу, командир о чем-то надолго задумался, а потом, словно спохватившись, единым глотком допил остатки. Но ни один из нас не захмелел достаточно, чтобы отмахнуться от пожилой женщины, визгливо верещавшей о своих беспокойных соседях: